треском заводимых часов.
ты ее раскопал?
что их тут нет.
кустов раздался резкий, скрежещущий, какой-то отчаянный звук.
ест, вот лягушечка и кричит.
в любую ящеру поверишь.
ладони рупором и заорал:
стали, решили, пусть отоспится после вчерашнего похода. Провожать гостей
пошел один Артем. Через три часа, возвращаясь со станции, он встретил свою
дочь. Даша топала по высушенной жарким солнцем дороге в полном
обмундировании: в брюках, куртке и резиновых сапожках. По дороге за ней
волочился привязанный веревкой и перемазанный в пыли дохлый кот. Все это
очень походило на известную сцену из Марка Твена, но никак не могло
обрадовать Артема, заставшего дочку за таким неожиданным занятием.
собака большущая из соседней деревни.
таскаешься? Неужели лучше дела не нашла?
пять метров. Я уже ворону отнесла дохлую, а теперь - Тишку.
здесь все-таки нет. Во всяком случае, кормить его дохлыми воронами не
стоит. Да и где он здесь будет прятаться, деревня рядом.
он попытался пройти через не слишком широкую полосу кустов. Выбрался назад
через полчаса, изодранный ивняком и ракитой, мокрый до нитки, с болотными
сапогами полными воды и с тех пор зарекся ходить через мочила. Когда-то
там действительно мочили лен, но за полста лет все заросло непролазным
кустом, а затянутые илом мочильные ямы превратились в настоящие западни.
Пускать туда дочку одну было просто опасно. А запрещать... Какой толк
запрещать, все равно она ходит, где вздумается.
стегоцефала.
вдруг он за ногу цапнет?
трогай. Ладно?
боком.
голосом: - Можно я стегоцефала буду Стешей звать?
выдумку. Дернул же черт за язык! Захотелось над Андрюшкой подшутить, а
получилось, что подшутил над собой. И девчонке голову задурил.
юркнула внутрь. Артем с Тишей на веревочке ломился следом.
перьев.
трава, и серо-зеленая тень с жирным чавканьем сомкнула широкую пасть на
его сапоге.
тварь, в которой и впрямь было больше метра длины. Тварь извивалась,
хлопая по грязи коротким треугольным хвостом, упиралась вывернутыми по
бокам немощными лапками и постепенно все глубже затягивала в глотку обутую
в сапог ногу.
трепа. Только сейчас это происходило на самом деле и потому было страшно.
литую резину зубы, выдернул ногу из голенища.
прочь. Сейчас он ничуть не удивился бы, если бы разом ожили все сказки,
что он рассказывал когда-то дочери.
извивалась у него в руках и кричала:
разлилась по животу, стрельнула в спину. У Паньки еще хватило силы
повесить на гвоздь ковшик, сделать три шага в комнату и боком повалиться
на кровать. Тело больше не слушалось, боль вползла в него словно ядовитый
гад и теперь грызла и плевала обжигающим ядом. Панька мычала сквозь сжатые
зубы, судорожно дергала головой. Боль не позволяла даже кричать, не
оставляла никакой надежды, что когда-нибудь она кончится.
обратно под ребра, затаилась там, давая передышку. И тогда Паньке стало
страшно. Живо вспомнилось, что так же каталась по расхристанной постели и
выла, сжав зубы, столетняя бабка Тоня. А Панька, в ту пору совсем молодая,
едва двадцать стукнуло, суетилась вокруг, предлагая лукового отвара или
тертой свеклы, надеясь, что послабит старуху, и непонятная хворь уйдет.
Паня и понятия такого не имела, чтобы хворать. Хотя чужих болячек
навидалась довольно. В сорок первом партизаны забрали ее на острова,
пожалели оставлять пацаночку на глазах у фашистов. В партизанском
госпитале на Ушкуйной горе Пане пришлось всяко, но оттого ли, что сама
никогда не болела, или еще почему, привыкнуть к чужой боли не могла.
помнившая еще барскую крепость, конечно, на острова не бежала, оставалась
в своем доме в Рубшино, даже фотографии родных со стен не сняла, хотя
многие изображенные там были военными и с орденами. По ночам часто
раздавался стук в бабкино окно, и старуха, изругав гонца, что из лесу в
деревню за травой бежит, передавала вязки трав, вместе с наказом "вашей
девке", как с этой травой поступать. Старухиных проклятий не боялись,
напротив, опасались похвалы. Говорили про бабку Тоню, что у нее дурной
глаз, и не без причины говорили. Замечали люди за ней такое свойство. Но и
помочь бабка Тоня умела лучше других, и в болезни, и просто в беде.
заплохело. Фельдшера в колхозе не было, люди по привычке послали за
партизанской сестрой, хотя Паня ничем не умела помочь умирающей, но никак
не могшей преставиться старухе.
неожиданно ясным голосом:
мне помереть осталось.
не положено.
богородице скорбящей и скажи: "За спасение души грешницы Антонины".
Обещаешь?
Молчишь. Значит, слыхала. И не испугалась, пришла. Это хорошо. Я тебе все






 Корнев Павел
Корнев Павел Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей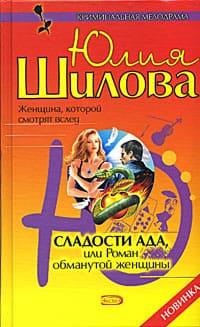 Шилова Юлия
Шилова Юлия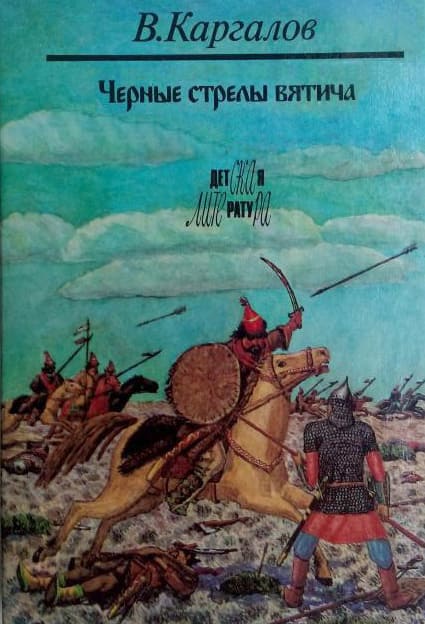 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк