– Вы полагаете, она знает настолько много?
– Похоже на то. Простую шлюшку не провести на прием, даже очень красивую. К тому же я не клюнул бы на простую. Они уже знают, что я на баб не падок. Потому подставили настоящую аристократку из высшего круга. Чтобы привлечь мой интерес, она сразу поспешила дать понять, что знает высших лиц лично, что княгиня, что богата и влиятельна… Понимали, что я почувствую, если врет, на чем-то да поймаю, а вот настоящая в самом деле может набросить поводок на такого плебея – умного, но бедного и низкорожденного.
Он покачал головой:
– Подозрительный вы человек, Виктор Александрович.
– Я? – удивился я. – Просто я человек, уже повидавший людей.
Он хмыкнул. По его глазам я понял, что он хотел сказать: людей ты повидал, дружище, но, похоже, и баб повидал тоже. Всяких, разных. В том числе – красивых и подлых.
– Я наведу о ней справки, – пообещал он, – но вы уж не делайте ничего неожиданного! Моя охрана должна знать, где вы и что с вами.
– Да все было ясно, – ответил я досадливо. – Я не двадцатилетний юнец, которому гормоны ударят в голову. Я знаю, как кто ведет себя. Вместо того чтобы только демонстрировать свои прелести, она поспешила выложить все козыри. Ставка на то, что заинтересуюсь если не просто красивой женщиной в постели, то хотя бы знакомством с такой знатной особой. Но, повторяю, я – волк битый. И как тот старый пес.
– Что за пес?
– Который скрэбэ, …, гавкае. Ну, разом делает три дела. Эх… который закапывает задними лапами продукты отхода организма, продляет род и охраняет государство. Самое неприятное, что в вашем тайном совете кто-то на их стороне. Я ощутил это ясно.
Лицо Кречета, и без того каменное, застыло вовсе. Мертвым голосом спросил, впрочем, без всякой надежды:
– Кто?
– Если бы она знала, – развел я руками, – то, возможно, узнали бы и мы. Могу добавить, что тот, кто проводил операцию по компрометации, сам все еще не свободен от старых канонов. А это значит, что задумал человек моего возраста или старше… и… гм… об этом потом. И ясно еще, что у него нет под рукой молодых помощников, которые могли бы поправить шефа. Да и многое можно сказать еще…
Кречет сказал ехидно:
– Может быть, сразу и адресок на стол?
– Не сейчас, – ответил я, к его удивлению, достаточно серьезно. – Не хотелось бы ошибиться. Но круг сузился. Очень сузился!
* ЧАСТЬ II *
ГЛАВА 1
Постовые сбивались с ног, направляя поток машин по другой улице. Демонстранты перекрыли улицу, подогревая себя криками, сгруживаясь, как овцы, чтобы если какой водитель, озверев, решится пустить машину на толпу, то чтобы попасть под удар не одному, а всей массе. Не то что на миру смерть страшна, христианам она всегда страшна, а удар распределится на всех, можно отделаться синяком, зато всю жизнь ходить в героях.
– Церковь наносит ответный удар, – сказал Володя.
– Если бы церковь, – буркнул я.
– А кто же?
– Чистые души. Церковь даже с петлей на шее не способна поднять жирный зад… Это как с двумя лентяями, что лежали в горящем сарае, терпели, и только когда загорелась одежда, один слабо вскрикнул: «Горим…», а второй тихонько попросил: «Соседушка, крикни и за меня «Горим!». Да что там, церковь даже не крикнет. За нее кричит это людье. Хорошее людье. Чистое, недалекое. Не видевшее мира, не читавшее других книг, не слушающее других людей. Мы любим таких, всем нам приятно общаться с хорошими людьми, что глупее нас.
Он посматривал на меня недоверчиво, на чистом лбу собрались морщинки.
– Я поеду по Кольцу, – сообщил он. – Хоть дальше, зато нет перекрестков… да и никакие демонстранты там не перекроют.
Машина неслась уверенно, мощно, мотор не гудел, а едва слышно мурлыкал, меня уютно вжимало в мягкое сиденье, но на душе была горькая безнадежность.
Соберемся, опять будем говорить о НАТО… И я буду говорить. Хотя я-то понимаю, что дело не в НАТО, что продвижение этого военного блока к нашим границам – это не угроза нападения, а куда страшнее и хуже… Это результат уже одержанной победы!
И Краснохарев, и его блестящий ученик, что держится так скромно, Усачев, и Коган, Коломиец, Яузов… никто из них не понимает, что на смену атомным бомбам, водородным и даже нейтронным пришло более совершенное оружие! Нет, не химическое или биологическое, это такой же примитив, рудимент мышления каменного века. Не лазерное, не электронно-компьютерное, интернетовское… Хотя уже теплее, но не потому, что по Интернету можно залезать в пентагоны и воровать атомные секреты. Или портить базы данных.
На смену незаметно для простого народа, а многие политики не умнее своих сапог, пришли бомбы философские! Бомбы с зарядами вседозволенности, разврата, сексуальной свободы, признания секс-меньшинств, признания прав дебилов и круглых идиотов на представление их интересов в парламентах, на свою долю в руковод-стве…
Как могла выстоять в борьбе Америка, где за все века истории не было ни одного философа, ни одного ученого, ни единого крупного деятеля? Даже в таком простом деле, как военное, там не было ни умов, ни героев, что бросались бы под танки или на амбразуры дзотов.
А этим как раз и победила. Чтобы победить другие народы и культуры, ей надо было всего лишь провозгласить девизом: все дозволено! Разврат, трусость, предательство, хапанье… все пороки легализируются, уже нет разврата, предательство оправдано, как и трусость… Все правильно: другие народы рано или поздно, глядя на такой разнузданный шабаш, устанут от карабканья к совершенству… Неважно какому: к коммунизму или построению царства Аллаха на земле. Вернее, устанет средний человечек, а его, как известно, большинство. И, как большинство, проголосует за более простую жизнь. Никакого космоса, никакой звездной астрономии. Мой сад, моя корова, персональный компьютер с играми, возможность ходить к жене соседа… и чтобы это не было с риском для жизни. Чтоб это было естественно. И без усилий. Женщинам тоже воля, чтобы не приходилось часами уговаривать расстегнуть еще одну пуговицу, а чтоб это стало просто, как выпить стакан воды. Нет, лучше пепси.
Меня качнуло к дверце, мимо медленно поплыла красная кирпичная кладка. Мелькнула зеленая форма. Вежливый, но строгий голос попросил предъявить документы. В машине потемнело, кремлевские часовые заслонили окна со всех сторон.
– Хоть здесь тихо, – сказал Володя с облегчением.
– Только бы не как в могиле.
Он погнал машину через мощенный плитами двор, шины весело шуршали по граниту. Из подъезда дворца навстречу слаженно двинулись парни Чеканова, охрана президента, но, когда я выбрался из машины, первым ко мне подскочил бойкий массмедик, длинноволосый, в темных очках, в стеклах которых отражалось солнце.
Он сунул мне под нос микрофон, на ручке крупная надпись, явно их канала, другой рукой зачем-то шуровал в кармане.
– Что вы скажете о новых указах президента?
– Каких? – поинтересовался я.
Он несколько смешался, что удивило, обычно этих ребят ничем не проймешь, наглость – первое качество профессии, впрочем, каждый тут же начинает делиться своими ценными мыслями, раздуваться на экран, а когда массмедик пытается закончить интервью, еще и вопит, что не все сказал.
– Последних… Где он пытается ударить по национальным святыням!
– Разве? – удивился я. – Как это?
Похоже, он уже начал терять интерес к человеку, который вроде бы и вхож в коридоры власти, но, может быть, даже не видел президента, а только вытирает пыль в его отсутствие.
– Ну, он решил сделать то, что не смогла Советская власть, – сказал он. – Разрушить святую православную церковь…
– Странно, – сказал я удивленно.
– А что вы скажете… – повторил он снова уже растерянно, ибо любой человечек, будь это порнопевица, депутат или премьер, охотно лезли под объектив, рассказывали подробности о делах, о которых даже не слышали, только бы почаще мелькать на экранах… – Скажите нам…
Я стал подниматься по ступенькам. Массмедик попытался пройти следом, чекановцы остановили. Он завопил радостно, что ущемляют прессу. Со всех сторон засверкали вспышки фотокамер. Я надменно сказал наблюдавшему за нами Володе:
– Объясни этим странным людям, что я застал еще те времена, когда мужчинам неприлично было дарить цветы, а женщинам – вино. Тогда никто не подавал руку и не общался с теми, кто в начале разговора не снимет темные очки, а руку не вытащит из кармана…
Массмедик задергался, то ли почти выигрывал в карманный бильярд, то ли наконец ухватил зловредную блоху. На лице отразилось страдание, а тут еще очки снимать, которые все же придают глупому лицу загадочное выражение, другая рука занята микрофоном, а я усмехнулся и прошел в услужливо распахнутую дверь.
Один из охранников на правах знакомого, видит меня уже вторую неделю, спросил недоверчиво:
– А что, были такие времена?
– Трудно поверить? – спросил я в свою очередь. – Увы, самому уже не верится.
Передо мной открывали двери, всякий раз задерживая ненадолго, словно просвечивали в поисках оружия, пропускали до следующей двери и снова останавливали. Я почти не замечал этой рутины, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а это все-таки монастырь чужой, мысли больше занимал странный парадокс, что, когда СССР бряцал оружием, весь советский народ, за редчайшим исключением, был за США. Если бы в самом деле война, наша армия сдалась бы американцам, только бы не воевать с теми, кто, по нашему мнению, стоял на страже свободы, справедливости.
Но вот сейчас, когда мы вроде бы уже не враги, все слои общества ощетинились на США за их продвижение к нашим границам. Именно теперь чуть ли не каждый готов бросить в их сторону гранату или хотя бы гнилое яблоко, хотя к этому никто не призывает!
Американцу, по чьей стране не прокатывались опустошительные волны скифов, киммерийцев, татар, шведов, немцев, французов, не понять ожесточения русских по поводу НАТО. Москву, к примеру, брали и сжигали дотла татары, поляки, французы… ах, так еще и американцы?
В кабинете Кречета собралась половина его рати. А у Краснохарева и Яузова видок таков, словно ночевали если не здесь, то под крыльцом.
Кречет встретил на середине кабинета, пожал руку, проводил к свободному стулу, выказывая уважение к отечественной науке.
– Пристают? – спросил он. – Я видел из окна… Похоже, вы его отбрили. Вид у парня ошарашенный.
– Да ладно, – отмахнулся я. – Видно же, что парень раньше писал о проститутках, скандалах, постельных утехах певичек, а тут послали говорить с нормальным человеком!.. Конечно, парень растерялся. В его мире нормальных нет.
– Подлая рать, – сказал Кречет с раздражением. – У меня нет особой симпатии к коммунистам или либералам, но когда вижу, что все газеты – все! – лизали зад президенту, предыдущему, конечно, и ни одна из этих пишущих тварей не рискнула вставить ему перо, хотя по стране ходили видеокассеты с записями его пьяных похождений на Западе, то ясно, что у нас за пресса.
За столом подняли головы, прислушивались. Возможно, у президента в этот момент как раз оформлялась некая инициатива, важно успеть понять ее раньше других.
– Господин президент, – сказал Коган очень серьезно, – зато теперь вы не можете пожаловаться на отсутствие интереса к вашей персоне. Значит, с вашим избранием демократия восторжествовала!
Кречет отмахнулся:
– Эта мразь просто чует, что я вот-вот упаду. И по своей подлой привычке лягать постаревшего льва спешат, спешат! Но я уж постараюсь, чтобы…
Его огромные кулаки угрожающе сжались. В кабинете наступило тягостное молчание. Коган сказал мечтательно:
– Зато потом… вот будут лизать, зализывать, зацеловывать… Кожу сотрут! Хотя нет, у нашей прессы языки шелковые.
– Иногда и там, за бугром, – сказал я, – языки не только шелковые, но и истекают медом.
Краснохарев буркнул, не отрываясь от бумаг:
– Реклама, что ли?
– Можно назвать и так, – согласился я. – Реклама своего образа жизни. Как сирены, что обольщали Одиссея, поют… Но Одиссей сумел устоять, а мы – нет.
На меня посматривали с сомнением, но внимательно. Хоть какие глупости я ни говорил, но все-таки президент зачем-то меня приглашает. Более того, прошел слушок, что даже советуется.
Кречет усмехнулся:
– Я сам слушал этих зарубежных сирен. Наше правительство здорово постаралось, чтобы их слушали и всему верили без оглядки. Мол, раз глушат, значит – там правда. Извечно русское отношение к власти… Мне, как и всем, нравилось все запретное. Как нравилось и то, что позволяло не карабкаться на гору, а позволило бы катиться вниз… Ведь, по сути, прежняя власть усиленно тащила человека на сверкающую гору, а Запад вкрадчиво уверял, что в этом самоистязании нет надобности.
Он бросил на меня быстрый взгляд, но я уже упорно смотрел в стол. Кречет говорил цитатами из моей старой книги по психике масс. Может быть, ему будет неприятно, что я замечаю, кто знает.
– Возьмем простейшую ситуацию, – продолжал он с ядовитой улыбкой, – когда человек решил бросить курить или пить. Или возьмем того больше: решил по утрам делать зарядку, учить язык, бегать трусцой… И вот все вокруг начинают: да что ты с нами не пьешь, не уважаешь, да? Да закури разок с нами, это здоровью не повредит, все враки! Вон посмотри на Митрича: курит, пьет, а все еще к бабам ходит, хотя ему семьдесят лет! Вон ихний Черчилль каждый день по толстой сигаре, бутылке виски, толстый, как копна, – а помер в девяносто лет!.. улавливаете?



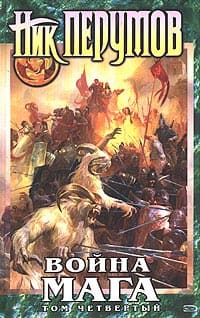


 Посняков Андрей
Посняков Андрей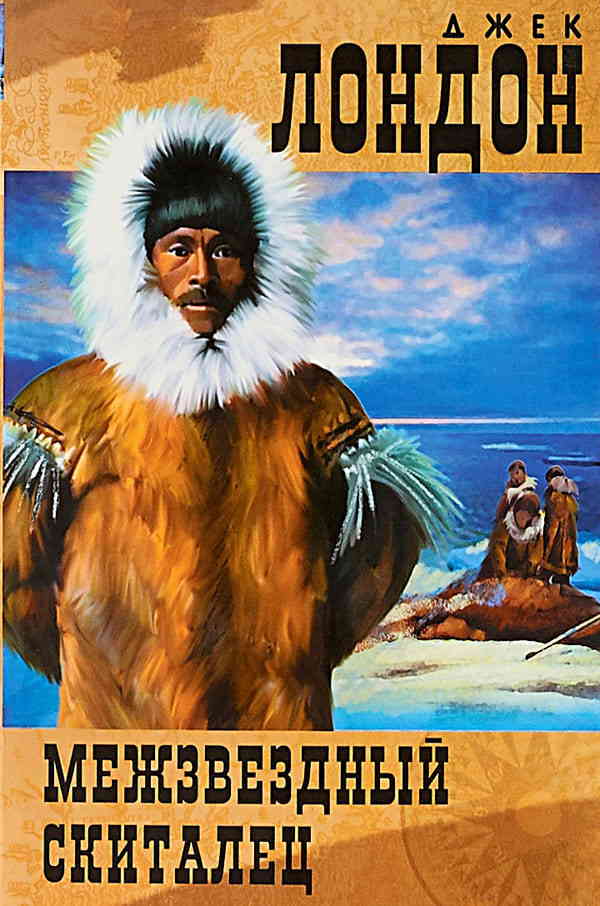 Лондон Джек
Лондон Джек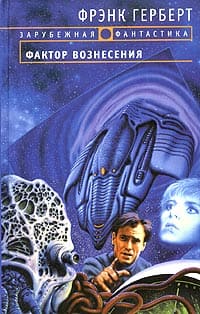 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк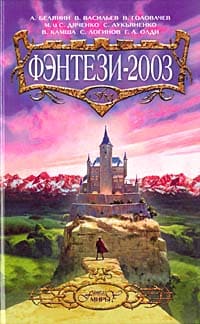 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий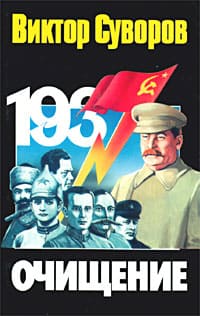 Суворов Виктор
Суворов Виктор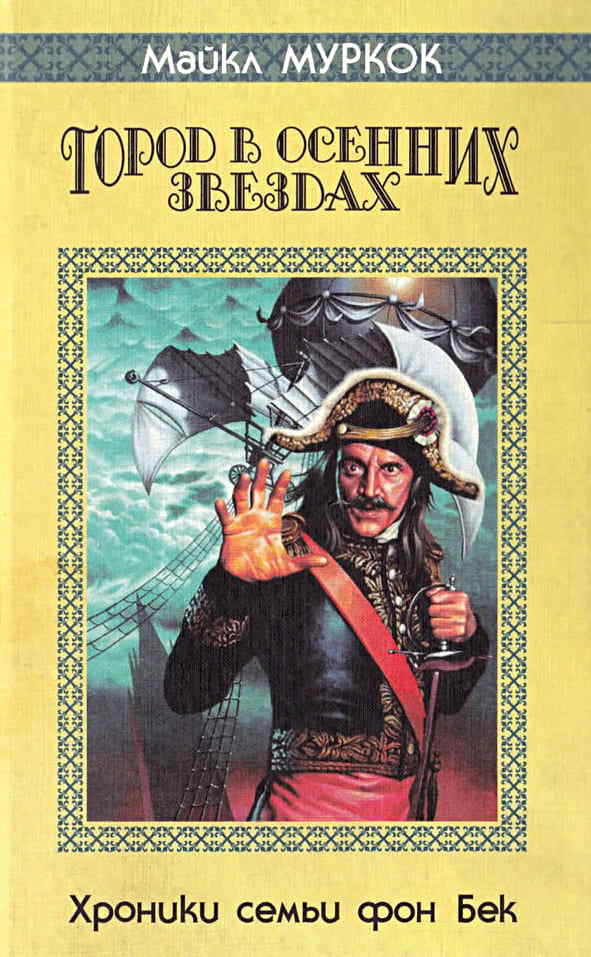 Муркок Майкл
Муркок Майкл