Упурок.
ладони Упурка - непривычно большая краюха и непривычно мытая ладонь, может
быть, по контрасту с чернотой хлеба... Безумец по-своему истолковал паузу,
и, порывшись за пазухой, извлек головку молодого чеснока.
горькой мякотью, не очень вслушиваясь в бессвязное бормотание безумца над
ухом, и лишь согласно кивал, как заведенный.
ешь, мальчик... Плохо. И то, что я говорю - тоже плохо. Еще хуже. Не
слушай меня... Приходи завтра. Еще дам. Еды дам. Помрешь же... Придешь?
Замке или по ночам, дескать...
мог. Ведь ничего другого нет, только так... Приходи, а?
его по спине, и трупожог долго кашлял в недоумении. - Боюсь, но уже
меньше. Есть хочу больше. Всегда.
омутах тишины; Скилъярд подождал немного, потом подкрался к убитой крысе и
воровато сунул ее в обтрепанную котомку.
вспухали радужными пузырями, дырявый мешок неба нависал над
захлебывающимся городом; и к вечеру Скилъярду стало казаться, что вся
жизнь, прошлая и настоящая, и будущая жизнь навечно перечеркнуты косым,
раздражающе мокрым росчерком... И родился он, наверное, в ливень, и помрет
в нем же, и небось даже в седой древности Четвертого нашествия небеса
по-прежнему плевались в грязную земную помойку...
Потом попробовал еще раз. Так, вот слева, значит, Город - красивый такой,
чистенький, стекла в окнах, раньше вроде их в окна вставляли, а не
выбивали, и вороны, вороны, жирные, лоснящиеся, непуганные, в случае осады
надолго хватит... а перед стенами - которые целые пока - дружина стоит
городская. Это она уже потом Дикая стала, еще бы, почти шесть десятков лет
в цитадели безвылазно!.. А тогда, стало быть, городская... То есть та,
которая при Городе состоит, для наведения чего положено - свои, в общем,
родные, - а ежели кто другой с мечом к нам придет, то гнать его, гада,
взашей - чтоб не мешал. Самим мало. Вроде сходится... Интересное дело,
однако, оказалось - придумывать! Особенно, когда выходит... Степняки же в
самом деле набегали, если не врут старшины, а дружинники их по мордам, по
лохмам, - валите, мол, куда подале...
вырисовывались расплывчато; на ум приходили почему-то все те же
дружинники, только вымазанные в скисшем молоке и с треугольными ушами. Ну,
про молоко понятно - старшины рассказывали; а уши сам придумал. Ну и
пусть, все равно природных упурков никто в глаза не видывал, а кто и
видывал, так помер давно. И так сойдут. Стоят они, значит, стоят... А
посередке шаманство ихнее скачет и Мастера местные, городские: слова
говорят, мир пополам ломают. Треск, наверное, жуткий, пылища, щепки
всякие... И поломали. Сволочи! Они, понимаешь, глухой дурью чесались, а мы
живи теперь в вот таком - вывихнутом... Хоть бы Мастер какой под руку
попался; так бы в рожу и двинул! - зря их Подмастерья через пару лет, как
слова совсем засохли, вырезали до основания. Зря. Авось, и до сегодняшнего
дня хватило бы - душу отводить. А тут сиди под дождем, дожидайся, томись -
придет Девона или впустую вчера ляпнул, от минутной щедрости...
денек сегодня выпал что надо, стыдно жаловаться. С утреца в шорных
развалах рылся, к полудню за пятку голую - цап! - и дружинничка выволок;
видать, от своих в налете отбился и на бронных старателей нарвался...
Добрый шлем на толчке нынче круто ходит!.. Только болваны они оба: и
дружинник покойный, и тот обалдуй, что по башке его дубьем гвоздил. Ну,
покойный - это и так понятно; а старатель - кто ж так лупит? Сидит,
небось, сейчас в схроне своем, и полбашки сплющенной из-под шишака
выковыривает; и налобник весь помятый, если не лопнул совсем...
гарды серпик махонький - обувку там подлатать или глотку кому втихаря
перехватить... Полезная штука, с понятием.
торги снес. Его там Окологородники чуть с пальцами не вырвали - даром, что
лезвие узковато - двух голубей копченых дали, лепехи три с травками; но
одну потом назад забрали, пожадничали... Скупой народ эти Окологородники,
скупой, да странный. Морды маслом отливают, плечи тесаные, а вообще хоть в
душу им гадь - смолчит, утрется и опять пойдет землю ковырять. Правда,
здесь не расплеваться, себе дороже... Вон три года назад молодняк с
Низинки западные посадки у них вытоптал, из баловства, - так с месяц ни
один из травосадов на торги не вышел. У людей листовая проказа началась;
старшины Низов мигом оглоедов своих приволокли - вешайте, говорят, жгите,
только еды дайте! Полторы цены совали... Ничего, обошлось, - та же
жадность и спасла...
гоняли, как обычно, по ушам не били. А тут темно уже, мокро, и Упурку
давно быть пора, и чего я его жду? Жрать не хочу вроде, спать хочу, аж
скулы сводит...
на влажную мостовую дырявый рваный плащ. - Вставай. Есть будем. Говорить
будем. Зовут-то тебя как?..
какой гнусный стал, не подхватить бы горячку, в сырости этакой!..
кучу какой-то зелени. - Бери, парень Скилли. Жуй. Ты у нас растешь еще,
тебе такого добра много жевать надо. Больше все равно ведь нет ничего. Не
достал. Извини.
торжествующе подпрыгнул, забрызгивая редиску водой из лужи, и кинул одну
тушку Девоне.
забыло, что ночь кругом, и стало светлее и приветливей. - Бери, Девона!
Под твою травку они веселее летать станут... Или поделимся - я мясцо
лопать буду, а ты уж листья доешь и расти, сколько влезет!..
что он готов отдать второго голубя, отдать за вторую улыбку страшного
безумца, но за другую, не такую - а вот какой должна быть эта улыбка, Скил
не знал, и радость стала хрупкой и ненадежной; но осталась, не ушла...
русло.
выходил. В пятый раз уже. Твердит - в степи меня видел. Он-то твердит, а я
не помню. Сижу, слушаю, и, как баран на веревке, только головой мотаю. Вот
такие дела, парень Скилли.
Ты ж барана в жизни живьем не видывал! А я... Я?! Выходит, был в степи.
Был... прав кузнец. Что ж это за жизнь такая паскудная? Эх, Скилли,
Скилли, век расшатался - и скверней всего, что я рожден восстановить
его!.. Скверней уж и быть не может...
с хрустом оторвал ножку и уныло принялся жевать. Трупожог повертел в
пальцах редиску и нехотя сунул в рот. Есть расхотелось. Совсем. Век
расшатался. Век. Расшатался. Слова-то какие больные: на слух - и то в жар
бросает...



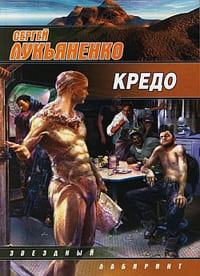

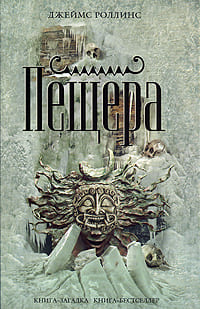
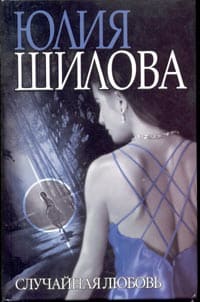 Шилова Юлия
Шилова Юлия Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Каменистый Артем
Каменистый Артем Березин Федор
Березин Федор Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Посняков Андрей
Посняков Андрей