разглядеть) указывала на место, где эта самая река протекала.
в сиянии зависшего над горизонтом месяца, серебрились и отбрасывали
глубокие чернильные тени кресты. Покосившиеся, старые и совсем еще новые
кресты небольшого погоста. Заросшие густой травой и просевшие холмики
могил, прохудившаяся деревянная ограда...
запряженный одной-единственной лошадью. Лошадь меланхолично жевала, время
от времени засовывая морду в висевшую у нее на шее торбу; позади лошади,
на облучке развалюхи, восседал высокий мужчина с темной бородкой клинышком
и рыжим петушиным пером на знакомом берете, лихо заломленном набок.
чиркал по нему крохотным ножичком.
Или уже приехали?
него пегую кобыленку, чей выпирающий хребет грозил прорвать облезлую
шкуру; на худого человека, чертящего маленьким лезвием по орешине и время
от времени дергающего себя за клок волос на подбородке.
Гаркловского вовкулака. - Герой... Кому сказать - не поверят. Хочешь,
прикажу, и сам ее загрызешь? Ну как?
мельника споткнулся, припал на колено... на другое... неодолимая сила
сгибала плечистого коротышку, ставя на четвереньки, покрывая жесткой
шерстью обнаженные предплечья, забивая мучительно приоткрывшийся рот
острыми клыками, искажая очертания...
исчезло.
кисет с табаком потерял, теперь ищет!
какому-то непонятному порыву, она почти сразу перевела взгляд с
корчащегося Седого на Великого Здрайцу - и шальная, невозможная мысль
обжигающим вихрем пронеслась в сознании: Петушиное Перо посмеивался, чтоб
не закричать!
непонятно что, приглянувшееся искрящимся блеском, и только в себе
разберешься, что случайно прихватил боль от смерти матери или страх перед
виселицей; когда краденое в первый, самый опасный миг неосознанно
становится своим, ослепляя и бросая в пот - но вокруг люди, и ты должна
улыбаться, говорить всякую чушь, быть любезной и приветливой!..
хохочут на площадном помосте в спрятанную под капюшоном рожу палача - боль
за смехом, как и за криком, легче прячется...
изломались домиками; такими милыми домиками с островерхими черепичными
крышами, каких много в венских предместьях. - Я, понимаешь ли, кобылу до
полусмерти загнал, колеса по три раза на дню меняю, за ней гоняючись, а
теперь здрасьте - не мучь его! Сама обокрала меня, как последнего ротозея
на ярмарке, удрала с чужим имуществом, прячется по монастырям... Небось, я
бы чего спер - так сразу бы: ах, Лукавый, ах, Нечистый!.. нечистый, зато
честный! Все по договору - условия и подпись! Своего не уступлю, но и
чужого не хватаю!
в глубине серебряных провалов его глаз медленно остывала, подергивалась
коркой пепла, каменела уходящая боль.
нацепил его на маленький сухой кулачок и уставился на берет, как если бы
видел его в первый раз. - Адамово племя! Меня хают медным хайлом, а сами -
только зазевайся! Одни святоши чего стоят! На защиту свою, на аббатика
тынецкого хочешь полюбоваться? Какие он службы тихой сапой отслуживает?!
Хочешь?
беретом неожиданно повернулся к ней, и рыжина пера сверкнула в глаза
мутным светом десятка свечей...
возились в пьяной драке несколько нищих, пропивавших на постоялом дворе в
Казимеже свой скудный заработок. Драчунов подначивали, делали ставки,
ожесточенно споря, кто кого раньше придушит; пышнотелая служанка, чьи
прелести откровенно вываливались из полурасстегнутого корсажа, только что
смазала по физиономии подвыпившего купца, пытавшегося ухватить ее за ногу
- но купец не отставал, он расторопно крутанул девицу и усадил к себе на
колени, заблаговременно сверкнув нужной монеткой. Всю спесь служанки как
корова языком слизала, рука купца мгновенно втиснулась девице за пазуху и
была встречена крайне благосклонно, а выползший из свалки одноногий
нищеброд как завороженный глядел снизу на обнажившуюся полную грудь с
полукружием розового соска...
повернувшись к несчастному лицом.
поведение женщины вызвало мимолетную тень смятения на его выразительном
лице. Он ожидал чего угодно - неверия, негодования, изумления - но слез он
не ожидал. Такими слезами плачут над лесорубом, которого привалило
падающей сосной, но уж никак не над гулящим аббатом.
священника-вора, открывшего свою душу для чужих грехов, самовольно
забиравшего сомнения и страсти у ищущих покоя - старший сын Самуила-бацы
крал цепи у каторжников, безобразие у уродов, брал не спросясь, насильно
присваивал... и грязный кабак в Казимеже был его епитимьей, освобождающими
муками, после которых опустошенный аббат возвращался в монастырь -
воровать.
женщину - и зеленые свечи удивления медленно гасли в омутах его глаз.
назад упавшие на лоб волосы. - Или устал?
сердцу?! Чего теперь изволите, ваша милость?
желающий понравиться госпоже, - и, словно почувствовав это, Петушиное Перо
нацепил берет обратно на голову, заломил его привычным жестом, дернул свою
эспаньолку раз-другой, и превратился в прежнего, холодного и насмешливого
дьявола.
крутанул тросточку в тонких, невероятно гибких пальцах. - Их милость
интересуются людьми... близкими к их милости. Ну что ж, мы готовы служить
верой и правдой... правдой и верой... о, нашел! Смотри сюда! Да не на
меня, а левее!
пышно обрамлявших дальнюю часть ограды погоста - и небо неожиданно
посветлело, зелень кустов брызнула в лицо, а потом возникло лежащее на
пригорке бревно и два человека на этом бревне...
колеблющейся дымкой. Но и сквозь эту кисею Марта безошибочно узнавала
знакомое с детства морщинистое лицо Самуила-бацы, гордый орлиный нос с
гневно раздувшимися ноздрями, смоляные жабьи глаза навыкате, где сейчас
полыхал темный огонь, прямую спину, которую так и не смогли согнуть семь с
лишним десятков лет, огромные жилистые ладони отца, тяжко лежащие на
костлявых старческих коленях...
месте. Воевода Райцеж что-то горячо доказывал приемному отцу, поминутно
вскакивая и размахивая руками (даже это Михал делал так, как если бы в
руках его было зажато по клинку); проходила минута, другая, Самуил-баца
отрицательно качал кудлатой головой, и все начиналось заново.
за грудки, мощным рывком сдернул с бревна и притянул к себе, беззвучно
крича в оскаленное лицо старика. Возраст не лишил Самуила-турка изрядной
доли его прежней силы, руки Шафлярского вора мертвой хваткой вцепились в
камзол непочтительного воспитанника, на миг они так и застыли: громадный
старик с ликом древнего идола и молодой воевода, играющий сталью и чужими


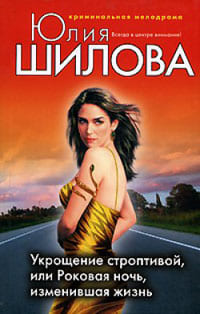

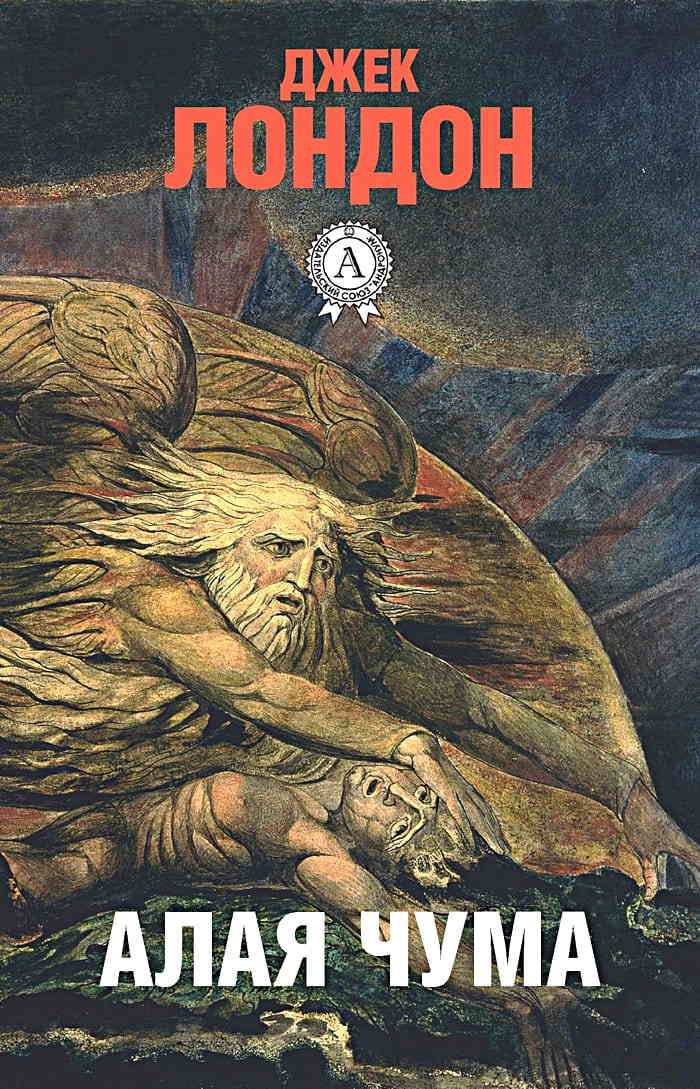
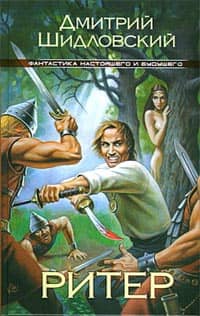
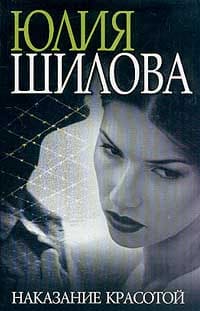 Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел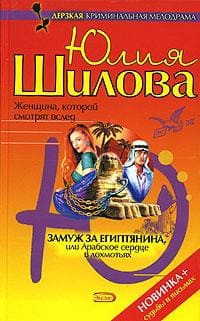 Шилова Юлия
Шилова Юлия Марко Джон
Марко Джон Громыко Ольга
Громыко Ольга Маккарти Кормак
Маккарти Кормак