молчаливое, беспорядочно копошащееся людское месиво казалось горе чем-то
вроде вскипающей прорвы Черного озера, когда в глубинах его водяные играют
свои шумные свадьбы.
пастухов с пылающими факелами, словно повинуясь неслышному приказу,
рванулись с места и парами понеслись в разные стороны, сопровождаемые
сизыми шлейфами дыма, обегая выложенный вязанками хвороста круг двадцати
шагов в поперечнике и тыча по дороге в сушняк огнем. Встретились пастухи у
того места, где круг был разомкнут, где кольцо вспыхнувших костров хотело
и не могло сойтись, образовав темный провал ворот, ведущих в рукотворную
Преисподнюю.
размашисто перекрестился и потом махнул рукой: начинайте, дескать! Богу и
людям живым огнем подсветили, ночь-маму уважили - пора и честь знать!
чуть ли не со всех ближних Татр горцев. И впрямь: было о чем перемолвиться
словцом с соседом, глядя на воеводу Райцежа и Мардулу-разбойника, прежде
чем оба скроются в огне и станут Бога спрашивать своими острыми чупагами.
Совсем юный, гибкий, порывистый, как годовалая рысь, не вошедший еще в
полную мужскую силу Мардула, пританцовывающий на месте и сверкающий
глазами на односельчан и гайдуков Лентовского, словно готовый растерзать
любого, кто помешает ему прикончить ненавистного воеводу; и зрелый Михал,
недвижно замерший и тускло глядящий перед собой, как глядит иногда
белоголовый орел с Криваньских вершин, прежде чем рухнуть в пропасть,
распластав могучие крылья и растопырив страшные когти - действительно,
воевода был похож сейчас на хищную птицу: сухой, перевитый жгутами мышц
торс, обмякшие руки, повисшие с той обманчивой неуклюжестью, с какой
крылатый царь гор обычно передвигается по земле, волоча громады крыльев.
чупагу, он пронзительно завизжал, подпрыгнул чуть ли не выше собственного
роста, приземлился на скрещенные ноги, снова подпрыгнул прямо с места и
через мгновение был уже на середине круга - приседая, мечась из стороны в
сторону, звеня медными кольцами на древке пастушьего топорика. Неистовость
разбойника была сродни неистовству зимнего урагана в горах, бессмысленно
бьющегося в стены ущелий, растрепывающего седые гривы снегов на вершинах -
но не жди пощады, попавшись ему на дороге, если только ты не горный хребет
или голая скала! Сметет, натешится, изорвет в клочья...
оглядываясь, медленно пошел к Мардуле. Чупагу Михал держал так, словно не
знал, что с ней делать, сомкнув сухие пальцы на середине древка; и в толпе
коренных гуралей неодобрительно захмыкали, похлопывая по плечам и спинам
приунывших шафлярцев - односельчан человека, столь неловко обращающегося
со знаком пастушьего достоинства. Разве что двое-трое дряхлых стариков,
помнящих покойного Самуила-бацу и его повадку, переглянулись меж собой и
прошамкали что-то беззубыми ртами.
Антонио Вазари, первый настоящий учитель Райцежа, презрительно называл
"жеребчиками" и любил жестоко наказывать, заставляя брать в руки боевую
рапиру, после чего становился напротив с тупым стальным прутом, откованным
специально для подобных случаев и насаженным на деревянную рукоять без
чашки. Если "жеребчик" хотя бы раз заставлял Антонио сдвинуться с места,
не говоря уже о том, чтобы оцарапать - учитель-флорентиец брал на себя
обязательство платить за это, выставляя большой кувшин виноградной граппы.
На памяти Михала такого не случалось ни разу; жена Антонио однажды
проговорилась, что когда-то граппа и впрямь досталась "жеребчику", но это
было давно, спустя год после их свадьбы с Антонио Вазари. А во всех
остальных случаях, которых было немало, учитель пил граппу сам, пока
истыканного до кровоподтеков "жеребчика" уводили под руки его друзья.
Сразу; когда станет слишком жарко, или когда надоест играть; истерзать
ранами или покончить одним ударом - то, что в руках Михала вместо
привычного палаша была чупага, не имело никакого значения.
сегодняшнего поединка, или это просто молодое недобродившее вино пенится
от удали и глупости?
Ивонич не мог позволить себе наказывать за это смертью. Если наказывать -
то начинать пришлось бы с себя; но Беата и младенец под ее сердцем
вынуждали Михала жить.
гуральских преданий вроде бы так и делал, когда отворял родники на
Подгалье. Да только камня под острие Мардулиной чупаги не подвернулось, и
вся сила пропала даром. Вскрикнув от отчаяния, разбойник на согнутых ногах
пауком побежал вокруг проклятого воеводы-отцеубийцы, норовя достать
обушком по голеням - но руки Михала были гораздо длиннее Мардулиных, а то,
что воевода по-прежнему держал чупагу за середину древка, почему-то не
имело никакого значения. В последний момент, когда обушок в который раз
уже норовил пройтись по лодыжке вросшего в землю, как столб коновязи,
Михала - обратная сторона древка воеводиной чупаги сухо щелкала по узкому
лезвию возле самого сапога, и обушок бессильно взвизгивал, наискось чиркая
по кожаному голенищу.
пастушьему ножу с дубовой рукоятью; и воевода задним числом полагал, что
рано или поздно вспыльчивый разбойник попытается метнуть нож во врага.
Гурали отлично метали и чупаги, но на такую глупость, после которой
рискуешь остаться совсем безоружным, Михал не рассчитывал. Вернее,
надеялся, что она не придет Мардуле в голову - безоружного разбойника было
бы очень просто оглушить и выволочь за шкирку из огненного кольца, но
горцы могли бы счесть это случайным везением, а не Божьей волей, и
потребовать продолжения поединка.
очерченного для себя воеводой, и Михал мог позволить себе неторопливо
прикидывать возможные повороты боя, предоставив своему телу действовать
самостоятельно. Он только краешком сознания приглядывал за собой - иначе,
полностью отпустив поводья, он мог опомниться от размышлений уже над
трупом Мардулы и запоздало клясть себя за то, что слишком хорошо учился
убивать.
выбивая ногами барабанную дробь, закрутил чупагу вихрем - и неожиданно
по-детски глупо кинулся к Михалу вплотную. Пальцы левой руки Райцежа
мгновенно, словно живя собственной жизнью, вцепились в Мардулино запястье,
сковав его кандалами похлеще каторжных, и чупага разбойника повисла над
непокрытой головой воеводы, не в силах сдвинуться с места. Даже не
попытавшись достать нож, разбойник свободной рукой обхватил Михала за шею,
рванул на себя...
Мардулы, Райцеж в ближнем бою имел множество преимуществ, если в подобной
ситуации имело смысл продолжать говорить о преимуществах. Даже сейчас
Михалу стоило известных усилий не свернуть разбойнику шею или не всадить
нож в поджарый юношеский живот.
померещился в десяти шагах, у самого огня, зыбкий силуэт, скрестивший
призрачные руки на призрачной груди. Огонь плеснул на видение искрящейся
лавой, очертания проступили четче, выпуклей - широкие плечи, орлиный нос с
раздувшимися ноздрями, жабьи глаза навыкате...
огненные мечи на дерзкого пришельца.
горящего сознания умирающего отца, Михал все-таки опоздал бы и уже держал
в своих объятиях идиота.
был вором. Разыскивая своих будущих приемных детей по городам и весям,
воспитывая их потом в строгости, старый Самуил не заметил того, что росло
под самым боком; вернее, заметил, но поздно - в последние годы жизни,
когда птенцы его гнезда разлетелись, разъехались, когда сам он
окончательно состарился и отпаивал травами на печке раненого
подростка-разбойничка. Вот тогда-то и почуял Самуил-баца в разбойном
гурале знакомый воровской талант, вот тогда-то и стал учить Мардулу нужной
сноровке, да только мало чему успел выучить - умер.
Мардула-разбойник, Мардула-вор, нет, не один, даже после Самуиловой
смерти.
пытался украсть боевое знание у Михалека Ивонича, не понимая, что делает и






 Орлов Алекс
Орлов Алекс Василенко Иван
Василенко Иван Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Пехов Алексей
Пехов Алексей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий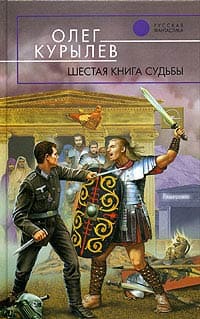 Курылев Олег
Курылев Олег