не подвернулось. Разве что два косвенных подтверждения тому, что пан
Мацапура ошибался, переводя без счета кровь младенцев, - для "Багряных
Врат" под чистой кровью подразумевалась скорее всего кровь
девственницы.
Сале.
говорил об одном: эту ошибку зацный и моцный пан успел осознать. И
если он сумеет сдержать свою поистине звериную похоть...
отужинав? все перепуталось!), ложиться спать в одиночестве. Хозяин
явно решил заночевать в замке, и это Сале вполне устраивало. Не
устраивало ее другое: строка вверху заложенной перышком страницы.
в мир человеческий, и мощь всякого колдовства увеличивается
многократно..."
колыхнулись тени на стенах библиотеки, и на миг Сале показалось, что
пошатнулся сам дом от фундамента до крыши. Хотя это, конечно, была
лишь иллюзия.
"ночь на Ивана Купала"?! Скорее всего, пан Станислав знал, что
говорит: по-видимому, в эту ночь их шансы нелегально прорваться через
Рубеж значительно повышались. Вот только... Путем несложных вычислений
Сале успела определить: ночь на Ивана Купала, которой надо было ждать
около полугода, наступит ровно за сутки до истечения срока их визы.
Разумеется, ни герой-двоедушец Рио, ни его ныне покойные спутники не
знали, что в действительности означает "истечение срока визы".
умирал. Причем эту смерть не назвал бы легкой даже добродушный пан
Мацапура.
приказала себе, засыпая. В комнате стоял кромешный мрак: свечи
погашены, дверь плотно прикрыта, шторы на окнах задернуты - ни лучика,
ни искорки звездного света!
темноте было совершенно не обязательно - но привычка взяла свое. Веки
смежились, мысли одна за другой канули вниз, в темный омут внутренней
бездны, растворяясь в ней; тьма перед глазами постепенно наполнилась
внешним светом, проступающим оттуда, из-за грани плотского мира...
Ярины; ты - подлый выродок, что глумливо разрывает могилу отца своего,
забавляясь голым черепом, силой пробуждая останки к чудовищному
подобию жизни... отыди от меня!
драгоценной раковины; вынимают золотую осу из медальона.
меньше двух часов, и Древо Сфирот оплывает мутным киселем, тем соком,
что, даже загустев, не останется на стволе янтарной капелькой - мгла
исподволь обволакивает спящую жизнь, и черные остовы тополей еле-еле
проглядывают вдали, тянутся из савана бессильными руками мертвеца.
в смятых простынях - женщина. Нагая. Незнакомая, чужая. Сидит,
бесстыдно скрестив ноги. Плотно сомкнуты тяжелые веки, прошитые
лиловыми строчками вен, и залегли мешки под глазами, темнея озерными
бочагами. Смеюсь неслышно. Сын мой, враг мой, что ты делаешь в этих
покоях, рядом с этой женщиной?.. не отвечает. Замер в дверях
истуканом, держа на ладони золотую осу; ежесекундно облизывает языком
вывернутые губы. Ты похож на меня не только лицом, да? Ты тоже любишь
Хавиных дочерей?.. не отвечает. Конечно, ведь тебе еще не дано их
любить по-настоящему, тебе еще не исполнилось тринадцати месяцев, как
смертным должно исполниться тринадцать лет, прежде чем их "нэр-дакик",
духовная сердцевина, оплодотворится истинной душой, итогом
совершеннолетия... Зачем же ты пришел сюда? зачем смотришь? зачем
принуждаешь меня смотреть?
согнуты в суставах, словно держат не осу, а спелый персик - боясь
раздавить, брызнуть ароматным соком.
нежданным подарком.
преградой. Увы, потуги тщетны - тепло движется помимо моей воли. Я
согреваюсь, я сдаюсь, презрев гордыню; я ем Хлеб Стыда, обжигаясь им,
захлебываясь, и искорка внешнего света сама собой пробуждается в
остатках... останках каф-Малаха.
милостыней.
груди смотрят в стороны сосками, не знавшими прикосновения губ
младенца, руки густо покрыты белесым пушком, лежат на костистых бедрах
двумя сбитыми влет птицами, и складка простыни едва касается
раскрытого лона. Аура над Женщиной тоже некрасива: знакомый кисель,
матовый, бледный, какого полно за окном - без лазури мечтаний, без
кровавого багрянца похоти, без ажурной зелени грез.
бренное тело, чья нагота бессмысленна и бесполезна. Ткни это тело
каленым железом, опрокинь на спину и сотвори насилие, ударь по щеке
наотмашь - не заметит.
бугры достоинств, словно надеясь изменить судьбу младенца; раздраженно
бью крыльями, закручивая воздух смехотворными вихрями; сотрясаю
пространство гневным жужжанием.
Неожиданно твердый, резко очерченный. Кожа подо мной еще упруга, но
это ненадолго. Это все ненадолго; и я в том числе. Раздражение
заполняет меня целиком, без остатка, мутный яд течет во мне, мутная
мгла без надежды на рассвет, сухие руки меня-былого обиженно тянутся к
съеденному тучами небу, и я чувствую: сдерживать злобу больше нет сил.
в воронку, и, прежде чем захлебнуться этой гнилостной мутью, я успеваю
заметить: мой сын стоит на пороге, по-птичьи склонив голову к плечу.
совсем не приспособлены для хождения по болотам, по мокрым склонам,
текущим оползням глины, - но тем не менее... и липкая жижа почему-то
не задерживается на атласе лакированной кожи. Поодаль, до половины
утонув в осоке, стоят рядком плакучие ивы - свесили желтеющие косы до
самой земли, изумленно глядят вслед.
китовом усе, на роскошь платья из розовой тафты, чья шемизетка сплошь
расшита соцветьями изумрудов и бриллиантов; а над всем этим
великолепием царит сияние жемчужных нитей в волосах. О, восхититесь! -
юная красавица стремглав бежит по кочкам и лужам, вишневым цветом
порхает над зарослями чертополоха, мотыльком огибая топкие места,
смеясь над растопыренными колючками терновника...
себя здесь, в Порубежье.
деревянные столбы. Длинная, бесконечная вереница; каторжники бредут по
этапу. Сочувствую: бывшие деревья, мы с вами одной крови, пролитой на
потеху врагам. На столбах рядами натянуты жилы из металла, украшенные
стальными репьями. Ржавчина густо испятнала ограждение, запеклась
повсюду бурой коркой, и нижний ряд жил тонет в грязи, сливаясь с ней.
По ту сторону - опять болота, холмы, деревья и сухой кустарник. Все
так же, как и здесь, но красавица в бальном платье смотрит вдаль с
тоской во взоре. Ей смертельно хочется туда, за жилы из металла, за
рукотворный репейник.



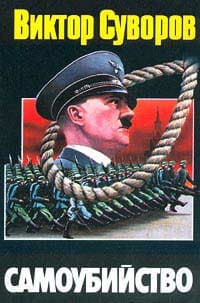


 Курылев Олег
Курылев Олег Никитин Юрий
Никитин Юрий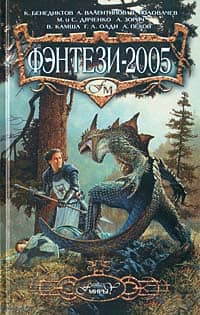 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Акунин Борис
Акунин Борис Пехов Алексей
Пехов Алексей