лицо. Им оказался барлас дворцовой охраны германец Свенельд, плохо
понимающий звучный фарси, зато хорошо понимающий язык стали. Тяжелый топор
германца оказался столь весомым аргументом в споре, что отделавшийся
легким испугом эмир долго взвешивал после на весах справедливости подвиг
бесстрашного Свенельда и его же наитягчайшее прегрешение. Дело в том, что
в перерывах между взмахами топора барласу довелось лицезреть обнаженные
прелести любимейшей из многочисленных жен правителя - что само по себе
приравнивалось к попытке переворота.
придворного врача, совершенно никчемный кусок плоти шлепнулся в медное
ведро, и не стало голубоглазого телохранителя Свенельда; а возле престола
солнцеликого встал голубоглазый евнух Лала-Селах, получивший награду и
высокое соизволение беспрепятственно глядеть на красавиц гарема, и надолго
запомнивший сиятельную милость.
евнуха. Подобные операции люди его возраста и телосложения переносят
весьма нелегко, и когда б не мастерство и италийские снадобья генуэзца -
не жить бы Лала-Селаху под изменчивым горбатым небосводом.
мудрейшего, что он милостиво отмахнулся от подробных изъявлений уважения
со стороны дотошного Якоба, и жестом указал на низенький табурет перед
огромным креслом, поручни которого были выполнены в форме двух изогнутых
клинков, долженствующих символизировать Меч Правосудия и Меч Бдительности.
По замыслу кади, всякий сидящий напротив таких символов мигом оставлял
пустыню зломыслия и погружался в водоем раскаяния.
спросил кади, хотя вряд ли его действительно интересовал ответ.
остановил его. Похоже, судья нервничал.
обязанность регистрации смертей жителей в Своде записей?..
очерченных Всевышним, - склонил голову Якоб.
сомневался в праве неверного рассуждать о границах, установленных Аллахом,
да еще в отношении его самого, высокого и великого кади; и он долго жевал
высохшими губами, недовольно морщась.
расследования некоторых случаев таковых смертей, кажущихся тебе
насильственными. Можешь ли ты представить доказательства?
судье мотивы своих догадок, но их обоих прервал лязг колец резко
отодвигаемой шторы. За волной отлетевшего бархата, в проеме тайного
помещения, возник невысокий плотный человек средних лет, в простом
замшевом полукафтане и мягких сапогах тюркского образца. Он порывисто
шагнул вперед, и узкие щелочки черных глаз обратились к Якобу.
видел смерть айяра. Ты - лекарь. Отчего умер мой воин?
разговаривать коротко и прямо.
выдашь Джакопо Генуэзцу фирман на расследование, и наказан будет всякий,
отказавший ему в помощи или закрывший перед ним ворота. Ты сделаешь это,
кади, потому что я не хочу, чтоб мои воины умирали от призраков - но
трижды не хочу, чтобы они умирали от страха!
Эмир Ад-Даула кивнул и повернулся к лекарю. Якоб молчал.
уважение? понимание? гнев? - и дверь в душу правителя захлопнулась.
терпким дымом - я не стану просить у тебя горького счастья в глиняной
трубке, я просто тихо посижу, побуду подле вон того откинувшегося на край
тахты человека с разметавшейся седой гривой дервиша, чьи ноги топтали
песок многих дорог, и чьи глаза видят сейчас горизонты путей, неведомых
людям.
дыхания... Что видишь ты, странник? А что вижу я, лекарь Якоб Генуэзо,
пришедший в поисках крупиц со стола вкусивших истины - я вижу их, дервиш,
и они уходят.
вошедшему все запретное; они уходят в строгие сады людей Евангелия, влить
голос свой в мерные псалмы бесплотных ангелов; и даже в размытую
непонятную нирвану уходят они, как сделал это третий сын Лю Чина, вежливый
юноша, любивший Конфуция и Фирдоуси; и суровая, пахнущая морем и шкурами
Валгалла открыла двери свои бешеному Ториру Высокой Секире, варягу из
личной гвардии эмира...
общности расширенных зрачков стоит непроизнесенное, соединяющее, последнее
- страх.
причин есть для того, чтобы человек покинул свою хрупкую оболочку, и
спокойно спит городской векиль, и писцы его - те, с кем вписывали мы в
толстую растрепанную книгу имена ушедших. А я не сплю, я гляжу в ночь, и
стоят передо мной в темноте их глаза, и чужой страх смеется мне в лицо, и
дрожат застывшие веки - навеки застывшие...
скальда и убийцу; что исказило непроницаемую раскосую маску сюцая Лю,
улыбавшегося, когда я удалял ему раздробленный палец; и что разорвало
широкую глотку собаки франков в квартале Ан-Рейхани? - и ты, пес, ты тоже
приходишь скулить по ночам к свидетелю смерти твоей! Кому нужен был ваш
испуг, кто выпил затихающие содрогания вашей плоти, и что ему с того?!.
зажат между твоими распухшими пальцами? И лицо твое течет, плавится в
пряном дыму курильни... Ну хорошо, я возьму, я уже взял, я уже читаю...
дыхания... Что видишь ты, странник? А что вижу я, глупый лекарь Якоб
Генуэзо, - я вижу странные слова на обгорелом обрывке, и вижу я путь, по
которому не хочу идти, и по которому пойду, пока глаза умирающих не станут
спокойными, или пока темный ужас не выжжет и мой взгляд...
караван-сарае Бахри. Проповедник сидел у глиняного забора, в полном
одиночестве, с поджатыми тощими ногами и полуприкрытыми пергаментными
веками. Якоб присел напротив и принялся ждать.
шейха вывел лекаря из оцепенения.
витиеватого, но привычного для разного рода дервишей.
шейх.
возразил лекарь, начиная тяготиться ажуром беседы, и чувствуя свою



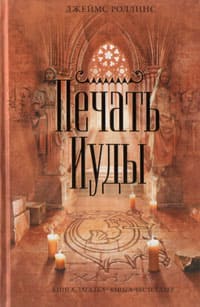
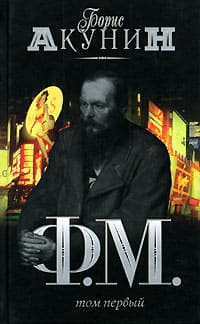
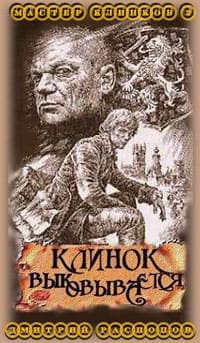
 Акунин Борис
Акунин Борис Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Ковальчук Вера
Ковальчук Вера Зыков Виталий
Зыков Виталий Корнев Павел
Корнев Павел