высоком, лучше б было? Нет. Я открывал ему высоты все новые и новые. Я не
желал заливать его пламя водой. А он все больше и больше пугался... Узнал,
что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять - в
озноб... Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не
сдался. Тут или - или. Иного быть не может. Он не выдержал. Да, значит, и
не мог выдержать.
посчитать, что к окну, и тут нынче не ошибешься... Да, искушал. Да,
подталкивал. И не жалею об этом... Но подталкивал я его не к обрыву, а к
выбору и решению... Он выбрал тишину... Он ничего иного уже и не мог
выбрать...
жестоко? Ты этого не чувствуешь? Ведь я привязался к Мише... Я на похороны
не смог пойти... Не было сил...
или поздно он уйдет в тишину и я буду страдать... Я не останавливал его, я
должен был испытать потрясения, чтобы написать лучшую свою вещь... Я
написал ее... Памяти утихшего скрипача... Это сочинение еще потрясет
людей...
скрипачу Кореневу суждено было его вынести. Творец же...
смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и
самому отстрадать... Кровью и сединой оплатить за великое сочинение... А я
знаю, что сочинил!
смятении чувств шарахался в буфете от моршанского ножа! Нет. Этот был
словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского
горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай
Борисович Земский.
жестоко.
Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми
да жене стирающего белье! А ведь Шитов был талант! Талант! Нынче же он -
никто, домашний хозяин. Ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о
ближних. И дрожит о них. Стал нянькой. Сиделкой. И слугой. Большому
художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и
иголкой, а женщины - в особенности... Сострадать человечеству мы можем, но
уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой никому - ни отцу, ни матери, ни сыну
- становиться не имеем права!
резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто
опомнился, заговорил тише:
одинок.
большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет
семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда
щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на
простом инструменте еще ярче.
блестящим артистом. Ты одинок оттого, что не связал себя душевной цепью ни
с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а
просто легок. Но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и
жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам... Так и будет. Не напоминай мне
слов о гении и злодействе, они красивы, но в них желание неосуществимого,
в них - желание мира-гармонии. А его нет. Сколько видели мы
гениев-злодеев. Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости...
Житейской жестокости, и ни о какой другой...
был... Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать
гением... Или чтобы их посчитали гениями... Другие бы и за малый успех, за
крохотную славу не поскупились бы заплатить ой-ей-ей как... А Миша
Коренев?.. Он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния...
Пробовал играть Паганини, не выходило, он и думал: а вдруг и верно
Паганини заключил сделку с дьяволом...
- У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой
сделки! Да что Миша! И у меня бывают мгновения...
Борисович Земский, на колени готов рухнуть все равно перед кем -
сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации,
уж не знаю перед кем, рухнуть на колени и молить его: сейчас же сделать
меня всемогущим, хотя бы в искусстве, и прославленным, а уж плату он волен
потребовать с меня любую!
Николай Борисович, - душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь - так жизнь,
муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я
согласен! Только утолите мои желания!
грохнулись!
Право, это неприятно.
дало о себе знать люмбаго. К креслу он двинулся разбитым стариком, и,
когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича
пламени более нет. И нет надежды.
шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерий пятнадцатого
века.
помолчав, спросил:
колени было бы неразумно.
же - не уверены в тишизме?
узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать часов не потеряла!
через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в
макулатуру - кому нужен утиль какого-то Земского! Чтобы к моим мыслям и
сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто
лет, я теперь, теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой
музыке. Пусть и со скандалом. Со скандалом-то вернее! Имя мое должно
застрять в умах людей! Туфелька Золушки мне нужна. Даже и похожая на
рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно. И кровью!
ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева?
напугаешься, коли и впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься,
что однажды подойдешь к окну и подумаешь: "А не прав ли Миша Коренев?.."
Если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь...
создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. За кого же?
себя в каком-то детском вздоре... Это и смешно, и неприятно... Разрешите
на этом откланяться.
ведь как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь... Извини... И забудь о
моих словах... Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка.
Себе же - вина, фирменного.
соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел
Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На
серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть
прозрачное. "Экий печенег!" - подумал Данилов.


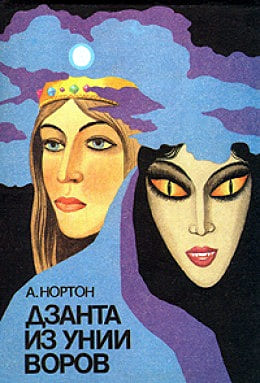
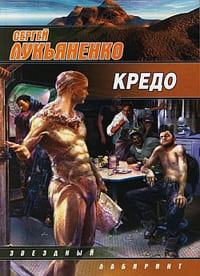


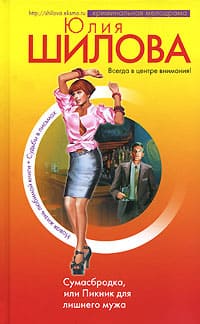 Шилова Юлия
Шилова Юлия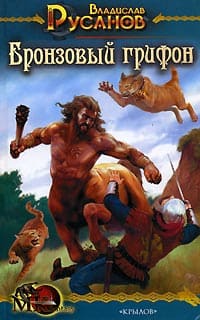 Русанов Владислав
Русанов Владислав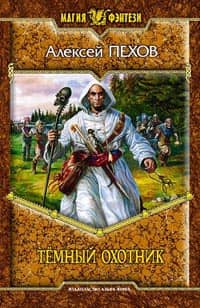 Пехов Алексей
Пехов Алексей Василенко Иван
Василенко Иван Лукин Евгений
Лукин Евгений Маркелов Олег
Маркелов Олег