отношения.
сказать не могу.
руку с письмом.
Земский. - Я не вскрывал его.
же решил вернуть Земскому:
твое знакомство с письмом не нанесет ущерба ни мне, ни Кореневу.
нервными руками лист нотной бумаги. Развернул его. Лист был чистый.
большого открытия...
не осудит.
лейтенант и лейтенант, этот с радиотелефоном. "Уж не Несынов ли? -
испугался Данилов. - Пойдут расспросы..." Но он тут же сообразил, что
Земский, наверное, звонил в местное отделение милиции, а Несынов трудится
в Останкине. И был составлен протокол, удовлетворивший Николая Борисовича
Земского.
залетел во владения императора, и вот уже следовал цветной и прекрасный
китайский марш, а потом спорили два соловья, живой и механический,
японский. Стравинского Данилов слушал рассеянно, он думал о погибшем
скрипаче Мише Кореневе, видел кладбище в Бабушкине, вытоптанный снег под
березами, заплаканную вдову и двух девочек, печальную Наташу с розами в
руках, видел себя, в частности, и то, как он старался уберечь пальто
знакомых Коренева от зеленой, не загустевшей еще краски соседней ограды.
Он держал сейчас итог Мишиной жизни, чистый листок, уход в беззвучие,
признание того, что произнести нечего или что вообще в этом произнесении
нет нужды. Однако нужда была, коли бросился в окно Что-то ведь произнес, и
важное произнес.
музыка Стравинского. Данилову была очередь идти на сцену. Несколько минут
в артистической он привыкал к инструменту альтиста Захарова, звук был
хороший. Данилов кивнул Переслегину и Чудецкому, пошел к публике. В зале,
видно, знали о происшествии с Альбани, тишина была удивительная.
Однако Данилов объявил:
сочинение? Но в названии ли было дело?
были сейчас и любовь, и злость, и отчаяние, вызванные гибелью инструмента,
он бы и в сражение теперь же бросился куда-то, и утих бы на Наташиной
груди, он непременно желал рассказать людям о судьбе скрипача Коренева и о
своем несогласии с ней, само желание рассказать уже и было частью этого
несогласия, он жаждал выразить свои понятия о жизни, о любви, о музыке и
снова утвердиться в них. Он играл. Он ощущал такую свободу в выражении
своих мыслей, переживаний, того, что было с ним или будет, какая к нему
пока не приходила. И этот незнакомый ему инструмент, как Альбани, стал
продолжением его самого, его голосом, его разумом, его сердцем... Когда
Данилов понял, что высказал все, что должен был сегодня высказать, он
кончил. Были аплодисменты. Возможно, просто вежливые. А возможно,
одобряющие не суть его музыки, а то, что он сыграл, хотя у него и альт
перепилили. А Данилов стоял и думал о той немыслимой свободе, с какой он
сегодня играл. Это было воспоминание об улетевшем счастье, но в нем жило и
ожидание радостей. Впрочем, всего важнее было то, что он сказал.
передать музыкой. А остальные? Многие говорили: "Непривычная музыка...
Странная музыка... Как будто бы тут и не альт... Надо еще послушать..."
Даже Переслегин был несколько смущен.
Привыкнут!
проснулся разбитый, обессиленный. И о музыке - своей и чужой - думал с
отвращением. Все его так называемые импровизации, и в особенности
вчерашняя, вызывали в нем чувство стыда. "Пошло бы это все!.." - говорил
он себе. И на оставшийся в живых дешевый альт он смотрел чуть ли не с
брезгливостью, хотя понимал, что ради прокорма все же будет играть на нем
в яме. Впрочем, и Альбани, на его взгляд, не стоил сострадания.
лежал, не шевелился, готов был звонить в "Скорую". Однако отпустило.
Землетрясение, по понятиям Данилова, произошло где-то силою баллов в
десять-одиннадцать. Но никаких сообщений в газетах о подземных толчках не
последовало. Была лишь информация о разгоне студенческой демонстрации в
Таиланде. Через день Данилова трясло и било, и опять в газетах упоминался
лишь Таиланд. Значит, вот как. Сначала землетрясения, потом цунами, потом
избиение студентов. Впрочем, так и было обещано Данилову. Будешь
совершенствоваться и дерзить в музыке - обостришь вновь обретенную
чуткость. Чуткость к волнениям и колебаниям стихийным, к колебаниям и
волнениям людским. Так он скоро и от плача голодного ребенка в Пенджабе
станет покрываться сыпью. И от стона ветерана, в ком шевельнется
оставленный войной осколок. И от невзгод какого-нибудь художника,
подобного Переслегину, кому не дают хода хлопобуды. Да мало ли от чего.
"Буду терпеть, - думал Данилов. - Да и какой был бы я артист без ощущения
боли, хоть бы и твари лесной".
штаны. В Италии он так и не купил брюк, приобрел пластинки, Наташа,
увлекшись народными костюмами, тоже пока не улучшила его гардероб. Но на
двери химчистки висел листок с карандашными словами: "В связи с занятостью
приемщицы пункт закрыт до 1 ноября". Данилов готов был метать громы и
молнии. Экое безобразие.
возможно, потерянных без возврата брюках. После Крестовского моста он
задремал. А когда разлепил веки, ушли и досада на пункт химчистки, и мысли
о колебаниях и люстре, наступило спокойствие. Данилов чувствовал, что есть
этот троллейбус, бегущий по Москве, и есть он, Данилов, и есть Наташа, и
есть его инструмент, и есть его пульт в яме, многого же не было и нет, оно
лишь, возможно, возникало в его фантазиях... Именно в фантазиях...
из ящика газету, а из нее выпала официальная бумага из 58-го отделения
милиции. В бумаге, подписанной старшим лейтенантом Ю.Несыновым,
сообщалось, что музыкальный инструмент (альт) работы итальянского мастера
Матео Альбани, Больцано, 1693 год (это подтверждено экспертизой),
принадлежавший гр. Данилову В.А., найден. Данилов приглашался в милицию
для опознания инструмента.


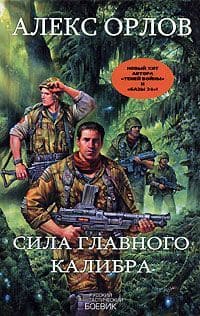


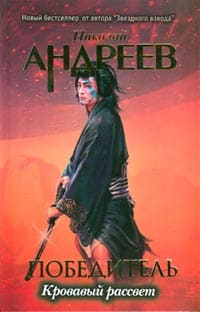
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия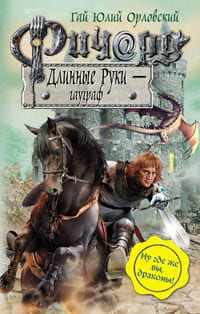 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Акунин Борис
Акунин Борис Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Никитин Юрий
Никитин Юрий