иногда хотелось засветить ему меж глаз чем попало, хоть стулом, хоть
бутылкой, хоть японским же компьютером. И японец, видимо, чувствовал
что-то, сворачивал разговор, но чуть заметно мрачнел, становился вежлив до
приторности и уходил; а потом оказывалось, уходил не просто так, а чтобы
собрать очередной сбор треклятой своей группы и обсуждать - черт его
знает, что именно, но ясно, что Коля.
благоприятствовать легкой беседе, Коль пробовал. Он очень хорошо помнил,
как, например, во время послеаральского загула ему и остальным двум
ребятам его экипажа стоило буквально лишь пальчиками щелкнуть - и любой
приглянувшийся плод падал с ветки. Он помнил, как после умбриэльской
экспедиции американцы увеселяли советскую часть экипажа - это было
опять-таки по-человечески. Одна совершенно пантерная мулатка в Лас-Вегасе
аж выучила, бедняжка, по-русски целую фразу, и около трех ночи, поднося
Колю стопарь для восстановления сил, старательно ее произнесла: "Русский
астронаутский пайлот куалифисированный отшен". Прозвучало настолько
приятно, что он даже не обиделся на "русского". Правда, протрезвев наутро,
со смехом сообразил, что фразка двусмысленная - квалификация в какой
сфере, собственно, имелась в виду? - но ночью, гордый добротно сделанным
сложнейшим полетом, он понял, разумеется, так, как следовало... Однако
здесь подобные фокусы не хляли. В разговор входилось легко, женщины были
умны и отзывчивы, и ощущалась в них некая выжидательность, но стоило Колю
от естественных первых, пусть и чуть натянутых, фраз начать куртуазно
вешать лапшу на уши - не разговаривать же с первой встречной всерьез, да и
что тут скажешь? - некая выжидательность замещалась некоей
страдательностью, и наползала непонятная, но непроницаемая стенка. Главный
идиотизм был в том, что собеседницы мужественно пытались поддержать
беседу, взять Колев тон, но уже сам Коль начинал ощущать, что делает
что-то не то.
космическая мощь... И ведь, в общем-то, с первого дня Всеволод очень
нравился Колю, может, даже больше остальных, с кем свела его за эту неделю
его новая судьба. И говорили по делу - не о науке бесконечной, и не о
здоровье, а о звездолете, о том, что там хотят сделать музей, и нужны
Колевы консультации. Не согласился бы он слетать на "Восток звездный", или
это ему будет психологически тяжело? И еще вопрос серьезный - разделились
мнения, где музей делать. Одни считают, что надо корабль на мощных
гравиторах опустить с орбиты на Землю, скорее всего, на бывший Байконур,
потому что первый звездный крейсер был назван, по решению отправлявшей
экспедицию ООН, в честь первого корабля с человеком, и где-то правильно
назван, ведь, как не относись к Никите и его команде за то, что они
человека, будто подопытную крысу-рекордистку, шуганули на виток, для тех,
кто "Восток" делал и на нем летел, это действительно был подвиг; другие
считают, что надо оставить звездолет, как есть, на стационарной орбите,
пусть это даже повредит посещаемости; зато те, кто придет, полнее поймут
чувство отъединенности и пустоты вокруг, и превращать механизм,
назначенный его создателями только для космоса, в игрушку среди карагачей
и олеандров, есть надругательство над памятью давно умерших дерзких и
талантливых людей. А мнение Коля? Но Колю было не до того. Он отвечал
невпопад, обещал, что еще подумает, а сам смотрел на сильное лицо, на
плечищи маршала, на обтянувшую атлетическую грудь полупрозрачную
безрукавку, и сравнивал себя с ним, и вообще с мужчинами этого мира, и
думал: господи, да куда мне теперь с аритмией, анемией, черт знает, чем
еще... да даже и без них... Телки меня просто не почувствуют, пыхти не
пыхти. И почему-то от начала разговора в голову навязчиво толкалось и
ломилось воспоминание, мучительно стыдное уже и в конце той жизни, и
подавно в этой: как он, сам-то по деду чех, с именем немецким в честь
немецкого канцлера, при котором незадолго до рождения будущего звездного
пилота соединились наконец Германии, сидит в курсантской казарме с пятью
такими же двадцатилетними остолопами и снисходительно цедит, якобы с
изяществом держа дымливую "Флуерашину" у рта: "Русских просто уже нет. Они
сами истребили себя, а остаток генетически выродился в семидесятых. Сейчас
русские - это не нация, а сословие, каста. Кто за сохранение остатков
империи - тот и русский..." Хорошо, что Всеволод этого не знает, думал
Коль. О подобных эпизодах, как назло один за другим запузырившихся в
памяти, он даже под пыткой никогда не рассказал бы этому Добрыне, да и
кому угодно, хоть Ибису, хоть чибису... Не получилось разговора. Полвечера
Всеволод пытался вовлечь Коля в свои дела, потом ушел - время свободное
вышло.
сей раз о хищных гейзерах второй планеты Эпсилон Эридана. Гейзеры были
штукой вполне загадочной, одной из многих загадочных штук, встреченных в
полете, и, хотя ассистенты и видео крутили на экран, и давали всю цифирь
на кресельные компьютеры, самого Коля, когда он отговорил, еще часа три
мучили вопросами. Затем, после обеда, доклад трансформировался в
дискуссию, и Коль сидел, неловко было уйти, решат еще, что он тупой
звездный извозчик, довез материалы - нате, а мне все до лампочки. Какие-то
высказывания, кажется, были дельными, но в целом Коль негусто понимал.
Ясутоки, пребывавший рядом, время от времени мягко спрашивал, на устал ли
Коль, не угодно ли ему покинуть зал и отдохнуть, или, например,
поплескаться в бассейне - и Коль, с каждым разом все раздраженнее
огрызался: хочу, дескать, узнать, что сообразит высокая наука двадцать
третьего века. "Ты что же, Ясутоки-сан, думаешь, мне эти гейзеры до
лампочки? Это вам, может быть - а я над ними летывал, вот так, в пяти
метрах!" Ясутоки спрятал глаза, но не смог утаить тяжелого вздоха. Когда с
кафедры пошло: "Эндодистантность плазмы при синхротронном лучеиспускании
ложа, естественно, обусловливает гиперпульсации псевдоподий" - сидевший за
Ясутоки Гийом наклонился к Колю и тихо сказал: "Думаю, ничего интересного
уже не будет. Пошла вода в ступе". Бред это, а не вода, подумал Коль, но,
сам не понимая, отчего, встал на принцип: "А мне интересно!" Гийом пожал
плечами. Докладчик был в ударе, Коль понимал одно слово из десяти. Через
пять минут у него аж в груди заныло. Гийом опять наклонился к нему: "Я в
буфет. Хочешь в компанию?" И Коль сдался.
встали на безлюдный эскалатор, шустро и беззвучно струившийся поперек
прозрачной стены, за которой зеленым и золотистым полотном стелилась чуть
всхолмленная степь.
дилетантизм.
запевала какой-нибудь рок-группы.
Терпение, воля, целеустремленность. И потом, для тебя гейзеры не
абстрактный объект исследования, а переживаемый факт биографии.
молодец за здорово живешь издевается надо мной?
ромашки, цвели парящие над зеленым полом белые лепестковые столики. Мы
первые не сдюжили, подумал Коль, озираясь - в буфете никого не было.
двинулся к пузатым разноцветным шифраторам. Коль уселся, поставил
подбородок на сцепленные ладони. Прямо у ног его головокружительно зияла
двухсотметровая бездна. Зачем-то Коль пнул ее ногой - как и следовало
ожидать, носок туфли отлетел от невидимой твердой преграды.
Гийом, улыбаясь дружелюбно, шел к нему. У вдруг Коль отчетливо ощутил, что
его ждет некий серьезный разговор. Лихорадочно он перелопатил в памяти все
неофициальное, связанное с периодом исследования гейзеров. Нет, как он
струсил тогда, никакие записи не могли зафиксировать. Этого никто не мог и
не может знать. Да и не струсил! Просто в момент, наверное, этой самой
гиперпульсации, будь она проклята, его обожгло: все, конец, никакая высота
не спасет! - и тело само, вдруг вспомнив противозенитные рефлексы, дернуло
вертолет в сторону и вверх, вверх, вверх... Наблюдение прервалось минут на
шестнадцать, но это не имело никаких последствий, потом он вернулся. Да,
струсил, черт вас... а кто бы не струсил? Вы? Нет, даже если пронюхали -
упреков не приму!
шестнадцать минут тебе до смерти носить на дне совести, как и многое
другое - но молча носить, молча...
уселся, вытянув ноги.
Коль.
политесы!
меня еще лимфоидная конвергенция не завершена. Лучше в бассейн.


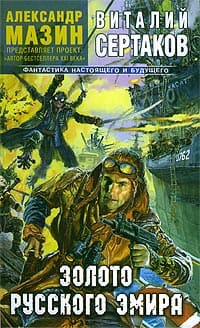


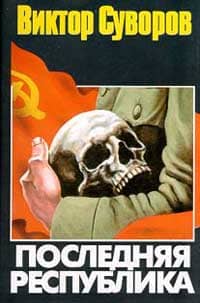
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий Якубенко Николай
Якубенко Николай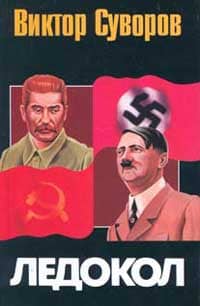 Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс