берегу щука сошла с блесны и заходила, замелькала зеленоватой, искристой
радугой, бликанула молочно-чистым животом и, наверное, упрыгала бы в реку,
если бы не Василий. Он самоотверженно плюхнулся на рыбу, придавил ее своим
телом, скользнув рукою, удачно угодил под жабры и, продолжая лежать,
свободной рукой нанес несколько ударов ножом под затылок. По громадному
телу рыбины прошла утихающая дрожь, и она, задыбив плавники, вытянулась,
слабо шевеля перышками охвостья.
все-таки поранился о жабры, отерся от щучьей слизи, сказал:
надежды, но заслуженного права за столь удачное действие получить
вознаграждение.
право ничем более не отвечать за столь неожиданную помощь. Осип, который
так и не сдвинулся с места, по-прежнему смачно сосал трубку, вдруг сказал
презрительно:
- Чего-о-о-о?..
далеко за моим уловом. - Тута сухи настоящей нет, однако. В Егдо добрый
суха! Десять метров.
рассердило. Осип явно шел ва-банк, желая так примитивно заинтересовать
меня и вызвать опять же к "поправке". - Что?
что щук!..
головой:
гнуть...
давай отшпорим... Зачем так говоришь - покмелиться...
и не десяти, конечно, не десятиметровые водятся щуки, но, наверное, и
впрямь громадные, коли с такой обидой защищает свою правоту Осип. К тому
же и Егдо - это незнакомое мне место - как-то на особинку задело, и я
предложил мировую:
пепел из трубки.
увал, - далеко.
указывал Василий рукою, но озера с таким названием не знал, не знал и
вообще о существовании озер на той возвышенности за увалом. Не было их
там, не значились они и на карте, которую я изучил, кажется, до каждого
миллиметрика. Малыми речушками, ручьями, охотничьими тропками исходил я
тайгу вдоль и поперек. Дикое междуречье, ограниченное с севера Авлаканом,
а с юга Сагджоем, тогда, да и сейчас еще было мало изучено. На громадной
этой территории не было ни сел, ни таежных заимок, и даже редкие зимовья
обозначались на карте, поскольку были единственными признаками
цивилизации. Кочевые эвенки и те редко посещали междуречье и не
задерживались долго в гиблых дебрях. Упоминание об озере, неожиданная
обида Осипа и определенность Василия сделали свое дело.
есть такое озеро и в нем щуки, ведите, однако, меня на него.
на меня взгляда, и словно бы задремал на корточках, ко всему равнодушный:
рогатульки. Один сучок загоняешь рыбе в жабры, другой цепляешь на палку,
которую берешь, как коромысло, на плечи, если улов большой, как сейчас,
нести приходится вдвоем. Василий без приглашения пришел на помощь, и скоро
мы уже несли улов на длинном шесте, как носят рыбаки невод. Щучьи хвосты
болтались, ударяя меня по спине, по ногам, а последняя моя добыча
волоклась хвостовым плавником по земле. Мы шли ходко, подгоняемые тяжестью
ноши, и так же ходко, но налегке спешил за нами Осип.
половина человечества вынуждена до сих пор выполнять одинаковую работу, а
порою и большую, с половиной сильной, - легко поснимала щук и покидала их
в долбленое большое корыто. Потом понимающе поглядела на меня, на Василия
и, наконец, на Осипа. Тот, подчеркивая свою непричастность к улову, присел
на приступке крыльца и пускал с безразличием дым уголком рта.
в избу.
лука и вернулся, когда все уже было готово. Казимировна накрыла стол (я
сколотил его по приезде в Инаригду) на воле, под старым пихтачом.
Столешницу украшали бутылка спирта, холодная, отваренная просто и в
специальном взваре из кореньев, фаршированная картошкой и жаренная в муке
и без муки щука, ломти домашнего, пышного, пропеченного хлеба, соль в
берестяном туеске и моченая брусника. Я протянул хозяйке пересеку дикого
лука, и она, брызнув на него водой, тоже водрузила на стол.
чинясь, с явной охотой и поспешностью, но немного опасливо поглядывая на
дородную, широкую в кости и тяжелую на руку хозяйку, присели к столу,
побросав на траву кепчонки, и с особым тщанием вытерли о брюки ладони,
повозив ими по задам. Почти то же самое ритуально проделал и сам я -
привычка, выработавшаяся за долгие годы жизни в тайге, у костров.
прежде чем разлить по стаканам спирт, плеснул его из горлышка на траву -
Бурхану, потом в чашечку Казимировне.
хмельной оказии появлялась на столе. Казимировна кроме своей небабьей силы
еще обладала редким умом и острым, точно разящим словом. Родилась она в
самом начале века и была дочерью ссыльного поселенца - поляка и местной,
по рассказам, небывалой красоты эвенки.
вскоре что-то произошло с матерью. Что - никто и не знает, ушла в тайгу и
не вернулась. А в Инаригду по весне - жил поляк отдельно от всех на заимке
в верховьях Бражного ручья, километров за сорок, - вышла девочка. "Кто
ты?" - спросили ее. "Казимировна". Так вот с тех пор шестьдесят четыре
года и живет в Инаригде.
Казимировна и ушла стряпать, а мы, быстренько осушив посуду, плотно
закусили и предались беспечному разговору. Говорили о разном: о том, что
нынче вроде бы грядет сухое лето, что травам надо бы по времени быть
погуще, о том, что не в пример прошлым годам много паутов, а комара куда
как меньше.
щелочками глаз, в которых стояли признательные слезы, сказал Осип.
поднять во мне возражение, не определил размеры щуки, и Василий снова, как
и тогда, закивал головою:
озеро. Не знаю, где оно, хотя и побродил там. - Я небрежно махнул рукою в
сторону заречного синего увала. - И на картах нет такого озера - Егдо.
махнул в том же направлении, что и я, но, вероятно, этот жест несравнимо
разнился с моим, потому что Василий снова поспешил подтвердить правоту
Осипа:
глаз, - сунул пальцем в лицо Василия. У Василия необыкновенные для эвенка
крупные глаза синего цвета с черным зрачком. Наследство, оставленное с
далекого казачьего колена в его роде. Я поразительно точно, есть во мне
такая способность, увидел громадный синий-синий глаз озера среди пустоши
тайги с глубоким зрачком посредине. "Почему со зрачком?" - подумалось, и я
улыбнулся этому вот вызванному видению.
межсезонье, ничем не занятое.
Василий, а Осип чуть по-утиному свалил голову набок и словно бы
прислушивался к чему-то внутри себя.






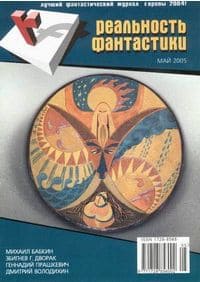 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Белов Вольф
Белов Вольф Шилова Юлия
Шилова Юлия Земляной Андрей
Земляной Андрей Флинт Эрик
Флинт Эрик Свержин Владимир
Свержин Владимир