Веры приходи к нам.
воздухе проносились аэробусы и авиетки, шумели крылья пегасов, извивались
молчаливые драконы.
сверху панорамой гигантского города. На земле Каир многоцветен и
разнообразен, с воздуха все забивают две краски - зеленая и белая, но
сочетания их приятны для глаз.
до вокзала. Экспрессы уходили на север поминутно.
Средиземного моря мы врезались в первый транспорт облаков.
тысячи кубических километров воды и что их неделями накапливают на водных
просторах, пока не придет время двинуть на материк. Но что и заповедное
Средиземное море стало ареной тучесборов, было неожиданно. На Земле
произошло много нового за два года, что я отсутствовал. Я пожалел, что
узнал о празднике поздно: хорошо бы слетать на Тихий океан посмотреть, как
гигантские облачные массы, спрессованные в десятикилометровый слой,
внезапно приходят в движение и, опускаясь с высоты, куда их загнали, бурно
устремляются по предписанным трассам в предписанные места.
с каждым километром за окном становилось темней.
солнце. Минут двадцать мы летели вдоль кромки туч. Я поразился, с каким
искусством формируют транспорты облаков, - километровая толща тумана
неслась таким четким фронтом, как если бы ее подравнивали год линейку.
Переход из темноты в ясность был внезапен.
Зеленого проспекта и Красной улицы. Чтоб не выходить на многолюдный в
праздники проспект, я свернул на Красную.
ее люблю. Невысокие - в тридцать-сорок этажей - здания вздымаются кубами и
многоугольниками, их опоясывают веранды высотных садов, уступы прогулочных
площадок. Мне нравится яркость этой улицы. Красный цвет содержит тьму
оттенков и полутонов. Одни здания взмывают малиновыми языками, другие
простираются стеной багрового огня, третьи пылают оранжевой копной - и
каждое не похоже на соседа.
Столице по-прежнему запрещены, зато сегодня жители высылали в воздух на
авиетках. Как всегда, усердствовала детвора, этому народу нужен лишь повод
для шума, а разве есть лучший повод побеситься, чем Большая летняя гроза?
Они отчаянно кувыркались над домами и деревьями. Я знал, что
Охранительницы следят за ними, но становилось не по себе, когда малыши
принимались соревноваться в падении с сороковых этажей.
Охранительница, разумеется, вывернула его авиетку, мальчишка пронесся мимо
и повис, покачиваясь, метрах в десяти.
авиетки. Я сел в одну и мысленно распорядился: "В Музейный город". Авиетка
через три минуты опустилась на площадь Пантеона, около памятника Корове.
вносят никого. Но могучие умы и характеры прошлых веков, своей
деятельностью подготовившие наше общество, заслужили вечный почет - он был
им оказан прадедами нашими, построившими Пантеон. На фронтоне дворца висит
надпись: "Тем, кто в свое несовершенное время был равновелик нам". Андре
иногда смеется, что надпись хвастлива: задираем нос перед предками. А я в
ней вижу равнение на лучших людей прошлого, желание стать достойными их.
духовное развитие человечества - Прометею, Одиссею, Дон-Кихоту, Робинзону,
Гамлету, Будде, мальчишке Геку Финну и другим - сотни поднятых голов,
скорбных и смеющихся лиц. В стороне от них, у самой стены, приткнулась
статуя Андрею Таневу, и я постоял около нее.
известно, хотя тюремные его тетради были найдены лишь через двести лет
после смерти. Но правда так переплелась с выдумкой в истории Танева, что
достоверно одно: в начале двадцатого века по старому летоисчислению жил
человек, открывший превращение вещества в пространство и пространства в
вещество, названное впоследствии "эффектом Танева", этот человек долго
сидел в тюрьме и вел свои научные работы в камере.
за спину, с головой, поднятой вверх, - узник вглядывается в ночное небе,
он размышляет о звездах, создавая теорию их образования из "ничто" и
превращения в "ничто".
от Земли мыслителем, - он был человек вспыльчивый, страстно увлеченный
жизнью, просто жизнью, хороша она или плоха. До нас дошли его тюремные
стихи - нормальный человек на его месте, вероятно, изнывал бы от скорби,
он же буйно ликует, что потрудился на морозе и в пургу и, с жадностью
проглотив свою еду, лихо выспится. Вряд ли человек, радовавшийся любому
пустяку, очень тосковал о звездах.
пространства в массу, и он первый провозгласил, что придет время, когда
человек будет как бог творить миры из пустоты и двигаться со сверхсветовой
скоростью, - все это содержится в его тюремных тетрадях.
Маркса и Ленина, открывающих галерею реальных учителей и ученых
человечества. Я всегда посещаю это место перед началом важного дела.
Ромеро шутит, что я поклоняюсь памятникам великих людей. Правда тут одна:
мне становится легче и яснее, когда я гляжу на этих людей и особенно на
величайшего из математиков прошлого.
колпаке покоится черная курчавая голова Нгоро. Она кажется живой, лишь
плотно закрытые глаза свидетельствуют, что уже никогда не оживет этот
могучий мозг.
те же мощные губы, мощные скулы, удлиненный подбородок, крутые вальки
бровей, массивные уши - все в этой удивительной голове мощно и массивно.
Но если выразительное лицо Леонида хмуро, его иногда сводит судорога
гнева, то Нгоро - добр, глубоко, проникновенно добр.
медицине его века удалось спасти лишь голову, отделенную от плеч, меня
поражало, что голова потом разговаривала, мыслила, смеялась, даже
напевала, к ночи засыпала, на рассвете пробуждалась - жила, нормально жила
тридцать два долгих года!
голова Нгоро, отделенная от туловища, довершила теорию создания научных
систем путем разложения любого экспериментального факта в математический
ряд.
плакали перед ним и Нгоро упрекал их за малодушие и твердил, что ему
хорошо, раз он может еще приносить людям благо. Он скончался на шестьдесят
седьмом году жизни. Он знал, что умирает, искусственное кровообращение
могло продлить жизнь головы, но не могло сделать ее бессмертной.
что еще придет на Землю, и тихо, все с той же доброй улыбкой, заснул в
обычное свое время, в начале ночи, - на этот раз навсегда.
лицом, и оно было такое, словно Нгоро уснул сегодня ночью, а не двести лет
назад.
немного похожим на тебя!
растрогался, что на глаза навернулись слезы. И, как всегда, когда я
беседую с головой Нгоро, мне стало легко, и покойно, и радостно.
три кольца высотных домов, заслоняющих видимость. Первое кольцо,
Внутреннее, еще сравнительно невысоко, этажей на пятьдесят-шестьдесят, но
второе, Центральное, вздымающееся уступами, гигантским
тридцатикилометровым гребнем опоясывает город, и, где бы человек ни стоял,
он видит в отдалении стоэтажные громады этого хребта, главного жилого
массива Столицы.
уже так много, что никакой человеческий мозг не смог бы разобраться в
созданной ими толчее. Я вообразил себе, что выйдет из строя Большая
Государственная машина и Охранительницы веселящихся в воздухе жителей
Столицы потеряют с ними связь, и невольно содрогнулся: люди, налетая один




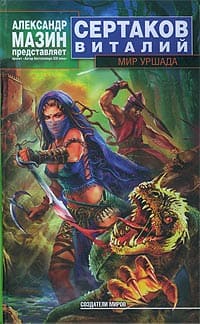

 Орлов Алекс
Орлов Алекс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Белоусов Валерий
Белоусов Валерий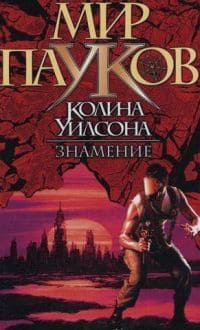 Прозоров Александр
Прозоров Александр Свержин Владимир
Свержин Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия