передай этим - кто тебя послал - чтобы они катились к чертовой матери.
Понял? - Не дождавшись ответа, нетерпеливо подул в трубку. - Рома? Алло!
Эритрин! Куда ты исчез?
посыпалось на пол, и вибрирующий, полный страха, растерянный голос
Эритрина произнес: "Не надо, не надо, я ни в чем не виноват..." - а затем,
чуть попозже, захлебываясь тоской: "Что вы делаете?.. Оставьте!..
Пустите!.."
немеет сердце. - Что случилось. Рома? Почему ты не отвечаешь?
дыры, онемевшей внезапно, будто потянуло ледяной струей. Игнациус, как
взведенную гранату, положил трубку на рычаги и на цыпочках, тихо пятясь,
отступил в привычную кухню. Ерунда, ерунда, подумал он, успокаивая сам
себя. Выдвинул ящик серванта. Папа Пузырев уже давно не курил, но держал
для гостей хорошие сигареты. Пальцы не могли сорвать целлофан. А потом -
протиснуться в набитую пачку. За окном до самого горизонта, светлея
однообразной бугристой равниной, простиралась новогодняя ночь: твердый
звездяной отблеск и чахлые ивовые кусты, ободранные вьюгой. Мрак. Унылая
пустошь. Отчаяние. Когда они с Валентиной поженились, то родители ее
отдали им свою квартиру и построили себе кооператив на Черной речке.
Следовало помнить об этом. Он чиркнул спичкой, и кончик сигареты уютно
заалел. Тут же, придерживая на груди стопку тарелок, в кухню, как утка,
вплыла мама Пузырева и потянула воздух расплющенным пористым носом.
Игнациус поспешно открыл форточку. - Дует - сказала мама Пузырева в
пространство. Тогда он закрыл форточку. - Извините, Саша, я давно хотела
сказать вам... - Не стоит, - морщась, ответил Игнациус. Мама Пузырева
сгрузила тарелки в раковину. - Вы плохой отец, - сказала она. - Наверное,
- согласился Игнациус. - Вы погубите ребенка. - Такова моя скрытая цель, -
согласился Игнациус. - Мальчик буквально пропадает. - От обжорства, -
согласился Игнациус. - Ростислав Сергеевич обещал вам помочь, но вы же не
хотите. А в четыреста пятнадцатой школе - преподавание на английском и
чудесный музыкальный факультатив, виолончель. - Она явно сдерживалась.
Проглотила какой-то колючий комок. На плите в кипящей промасленной латке
булькало что-то вкусное. - Я терпеть не могу виолончель, - объяснил
Игнациус. - Когда я слышу виолончель, я с ног до головы покрываюсь
синенькими пупырышками.
первый класс, и с тех пор дискуссия о школах не прекращалась. Толку от
нее, правда, не было никакого. Одна маята. - Сергей будет учиться рядом с
домом, - подводя итог, нетерпеливо сказал он. - Но почему, почему?! -
Потому что ближе. - Я могу ездить с ним, - предложила мама Пузырева,
вытираясь полотенцем. - Спасибо, - вежливо сказал Игнациус. - И Ростислав
Сергеевич может с ним ездить. - Спасибо, - сказал Игнациус. - В конце
концов, главное - это Сержик. - Разрешите пройти, Галина Георгиевна, -
страдая, попросил Игнациус. Мама Пузырева вдруг шатнула к нему несчастное
распаренное лицо, на котором кривились дрожащие губы. - За что, за что вы
меня оскорбляете?! - Игнациус даже испугался, что она его ударит. Но она
не ударила, по-гусиному вытянула шею в розовых лишайных пятнах. - Вы
жестокий, вы самодовольный эгоист, вы презираете нас, мы же видим, вы даже
разговаривать не хотите, зачем вы женились на Вале? вы мучаете ее, потому
что она умнее вас, я не позволю! - да, умнее и лучше, вы не можете
простить ей свою ограниченность!.. - Галина Георгиевна!.. - выдавил
ошеломленный Игнациус. - Вы - злой, вы - злой, вы - лицемерный человек, -
мама Пузырева упала на стул и закрылась скомканным полотенцем. - Простите,
Саша, а сейчас - уйдите, пожалуйста, я прошу вас, я не могу вас видеть...
- голые плечи ее вздрагивали, она теребила слезы в мягком носу. Игнациус
боялся, что кто-нибудь некстати вопрется. Сделать ничего было нельзя.
Никогда ничего нельзя сделать.
можно сильнее. Завыли водопроводные трубы. Неделя протекла спокойно.
Игнациус развез рукописи оппонентам и подготовил автореферат. Договорился
насчет обязательных для защиты рецензий. Обстановка на факультете
благоприятствовала. Созоев при встречах здоровался вежливо и
непринужденно. О Груне никто не вспоминал. Прошло заседание кафедры.
Бубаев - хвалил вопреки всем прогнозам. Рогощук - отмалчивался, в слепоте
змеиных очков. Город готовился к празднику, и из магазинов торчали кипучие
нервные очереди. Валентина впервые провела испанцев. Ей подарили
балалайку, купленную в "Сувенирах". Правда, она утверждала, что это -
севильская мандолина. Игнациусу было все равно. Утихали метели. С утра до
вечера падал крупный мохнатый снег и взлетала поземка на перекрестках.
Прохожие слонялись, выбеленные, как призраки. Машины упирались голубыми
фарами в роящиеся облака. Громадная, увешанная пластмассовыми игрушками
ель высилась перед Гостиным двором, и переливчатые огни стекали по ее
ветвистым лапам.
декабрьская простуда. Дважды звонил Эритрин и орал, как помешанный -
перемежая мольбы с идиотскими тупыми угрозами. Речь все время сводилась к
кольцу Мариколя. Игнациус нажимал на рычаг и прикладывал трубку к
пылающему лбу. Сонная улица, четырнадцать. Он не знал, было это с ним или
не было, но он не хотел забывать. Ойкумена существовала рядом, как изнанка
древнего мира. Как рогатая тень, как загадочная и древняя сущность его.
Там скрипели деревянные лестницы, и били куранты на ветряной башне, там,
шурша коготками, бродили по тесным переходам уродливые панцирные жуки,
там, меряя шагами клетку, ожидал казни яростный Экогаль, и Аня томилась в
подземной тюрьме, где царил тлен корней и попискивающий крысиный сумрак.
Огненный Млечный путь был распахнут над Кругом во всем своем ярком
великолепии и блистающий холод его лежал на цепях и зубчатых колесах.
Полночь еще не наступила. Из внутреннего кармана он достал кольцо Мариколя
и протер его. Гладкий спокойный нездешний металл. Сначала он думал, что
это - серебро, но один знакомый сказал - платина. На кольце была печатка в
виде скорпиона, голову и тело которого составлял кровавый бриллиант. Оно
едва налезало на мизинец. Игнациус поднес его к лампе, и скорпион
зашевелил нитяными лапками.
потому что пришло время жениться. Бывают такие дни, когда от весеннего
солнца, от растрескавшихся горьких почек, от свежего запаха воды над
гранитной набережной сладко кружится голова и особенно горячо звенит кровь
в натянутых жилах. Сияет хрупкое небо, подпертое шпилями. Слепят блики из
чистых окон. Жизнь вращается, как пестрая карусель. Начинается эйфория.
Совершаешь необъяснимые поступки. Пленка нереальности обволакивает
сознание. Потом она распадается и в остром недоумении замечаешь неровную
вялую кожу, извилистый нос и три черных волосатых родинки под ухом на
влажной щеке.
сытый клопик: барабанный живот и раздвинутые кривые ножки. Глаза у него
слипались. Папа Пузырев, уже свекольного цвета и поэтому любящий все
человечество сразу, увидев его, очень обрадовался.
яиц. Сложность здесь заключалась в том, что скорлупа должна была быть
достаточно твердой, чтобы не биться при перевозках, а с другой стороны -
достаточно тонкой, чтобы обычный цыпленок мог сразу проклюнуться. Она
заказывала яйца в совхозе и кокала их молотком - с разной силой и под
разными углами. Сначала сама, а потом ей выделили лаборанта. Вместе они
перебили около миллиона штук. Лаборант не выдержал и ушел в аспирантуру. А
Капелюхина стала писать диссертацию. Она писала ее двенадцать лет и все
двенадцать лет ела яйца три раза в день - на завтрак, на обед и на ужин. И
муж ее питался исключительно яйцами. И все родственники - тоже. А дети
настолько привыкли к яйцам, что не могли употреблять в пищу ничего иного.
Тем не менее, они выросли уважаемыми людьми.
салатом. В институте он заведовал АХЧ. Как и полагается отставному
ответственному работнику. Теперь должна была последовать густая мораль.
Дескать, и от науки бывает польза. Но мама Пузырева, слегка приседая,
внесла дымящееся блюдо, на котором вываренный сахарный рис был обложен
погребальной зеленью, и грохнула его на середину стола. - Ты - выпил, -
сказала она, окаменев желтым подглазьем. - Нисколько, - папа Пузырев с
достоинством вынул пиджачный локоть из хлюпнувшего салата. - А я говорю:
ты выпил! - Совсем чуть-чуть. - А я тебе запрещаю! - Ну и что тут такого?
- А то, что я тебе запрещаю! - Они ненавидели друг друга давно и спокойно.
Игнациус, который никак не мог привыкнуть к таким отношениям, глухо
пробормотав: "На минуточку", - начал выдираться из-за стола. Деться ему
было некуда. На кухне гремела кастрюлями сеньора Валентина. Он потоптался
в прихожей и набрал номер Анпилогова. Гудки на той стороне долго падали в
безвоздушное слепое пространство.



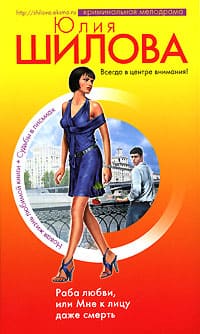

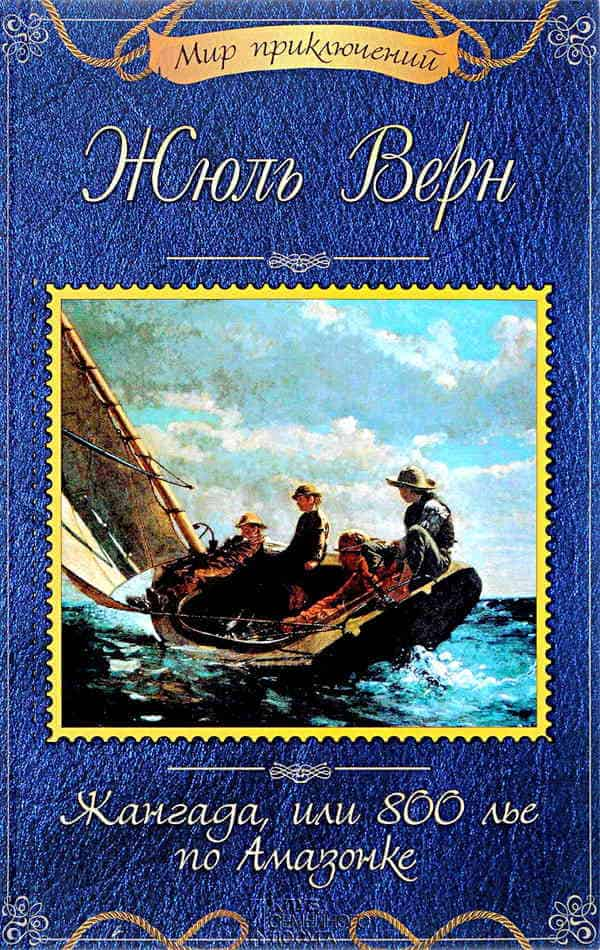
 Мурич Виктор
Мурич Виктор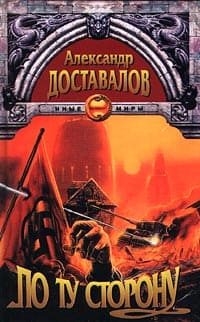 Доставалов Александр
Доставалов Александр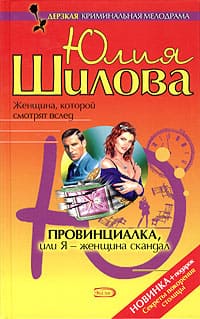 Шилова Юлия
Шилова Юлия Куликов Роман
Куликов Роман Панов Вадим
Панов Вадим