взлохмаченный и небритый Витька. Лицо его выражало высшую степень
недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенности.
Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман
в кремовых брюках, кремовых же выходных штиблетах и в майке расхаживал по
комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и
нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо,
что в нашем обществе, оказывается, узаконена строгая моногамия и любые
попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением,
а то и в уголовном порядке; что любовь - это ни в какой мере не вздохи на
скамейке и уж, во всяком случае, не прогулки при луне...
Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, искушенный в
принципе "доверяй, но проверяй", навел справки о гражданине Ойре-Ойре
Р.П., и сведения о семейном положении этого гражданина оказались столь
неблагоприятными, что товарищ Голый мнением положил: гражданина Ойру-Ойру
Р.П. впредь на порог не пускать и от ухаживания и иных матримоний в
отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и
предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном
гражданине Ойре-Ойре Р.П. Выяснилось далее, что к отстранению от
матримоний старший из магистров отнесся легко, если не сказать
легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что
оргвыводы отстранением не закончились и весьма возможен неофициальный
закулисный сговор между местной администрацией в лице товарища Голого и
Тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании товарищем Ойрой-Ойрой Р.П.
спрута Спиридона как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из
магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен на исходные
рубежи.
темный, уголовный Виктор Корнеев. Ничего, кроме серых и черных слов,
вытянуть из него не получалось, но сами за себя говорили, во-первых,
знакомый бидон с Жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый к возврату в
комендантово лоно, а во-вторых, крайне угнетенное состояние духа темного и
уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной
нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно
произошло, и мысленному взору являлись тогда великие: грустный Жиан
Жиакомо, укоризненный Федор Симеонович и беспощадно-брезгливый Кристобаль
Хунта, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебной силы
слова, которые нам не дано было услышать (и слава богу!).
себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался
сегодня свидетелем - зверское избиение Клопа Говоруна, бездарное
рассмотрение дела заразы Лизки и решительная расправа со злосчастным
Коровьим Вязлом, - изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по
заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших Эдиковых
психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать
о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к
неуязвимой Тройке.
волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна
повернула к нам свою спину.
Здесь печально, как в скорбном доме; здесь уныло, как на кладбище; а ведь
вам еще неизвестна история блаженного Акакия! Вы еще не знаете, что Акакий
был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески
терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть.
Однако, поскольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и
побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с
садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя
переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия,
стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на
просьбу о пощаде. И не преуспел ведь! Плеть сломалась раньше духа, и
Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое
лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: "Ушел-таки... Не
повезло... Надо же, какая скотина попалась упрямая!" Как вдруг Акакий
открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык...
все время шляетесь?
чужим домам... - Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и
вышвырнул в окно.
Роман, но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из
магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные
кремовые брюки. Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно:
обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, Тройку
совершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки реморализации и
далее, но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка,
по-деловому критикующая деятельность Тройки, будучи направлена по верному
адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман,
прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая
"телега" не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо
к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову
очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора
Выбегаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который,
как добросовестный человек, не согласится выступать арбитром в научном
споре. Так что в лучшем случае "телега" ничего не изменит, а в худшем -
настроит Тройку на мстительный образ мысли.
Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным
человеком. Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было,
что Корнеев имеет в виду под словом "нейтрализовать" и почему эта
нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с
возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что
имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора,
которую кто-нибудь из нас развернет. Разика два приползет к заседанию на
бровях, сказал Витька, его и попрут. Мы были разочарованы. В высшей
степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности
или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить
Выбегаллу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках, и не
хватало у нас для такой кампании пороху.
заинтересованы, и подсунуть их Тройке вместо оригиналов. Мне казалось, что
это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, мы что-нибудь и
придумаем. Мое предложение было отвергнуто - как паллиативное,
оппортунистическое, дурно пахнущее и к тому же не сводящее дело с мертвой
точки. Тогда, с горя, я предложил создать дубликаты членов Тройки.
Магистры удивились. Были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил.
У меня не было никаких оснований предполагать, будто Шестерка будет лучше
Тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния, и Корнеев заставил меня
признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в
сущности своей я как был дураком, так и остался.
сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбеллий остановил
на улице убийцу двухсот двадцати пяти сенаторов консула Фульвия, сделал
ему выговор и в знак протеста против позорной бойни заколол себя кинжалом.
Некоторым кажется, что Таврий Юбеллий - герой, заключил Панург, но на
самом деле он тоже дурак: зачем убивать себя, честного человека, если
имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и
знакомых? Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее,
причем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины.
предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на глазах у Тройки
своего дубля. Роман усомнился в эффективности такого жеста, и они
быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав.
Когда модель дубля вспыхнула, модель Лавра Федотовича отреагировала на
происшествие стандартным высказыванием: "Затруднение? Товарищ Хлебовводов,
устраните". И модель Хлебовводова, повалив на пол горящую модель дубля,
затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил
телефон. Я снял трубку.
осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос.
я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая...
Не по-русски там идет... У меня в агрегате таких букв и нету. Иностранные,
видать... Их печатать, или как?
различных животных. - Обязательно печатать!
срисовывать научится... Действуйте, действуйте!
представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того, чтобы путаться под
ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе
за "ремингтоном", колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает
латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы
покончим с Бремом, то возьмем сначала тридцать томов Чарлза Диккенса, а
затем, помолясь, примемся за девяностотомное собрание сочинений Льва
Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями...



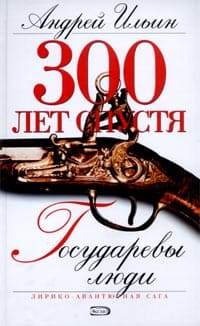


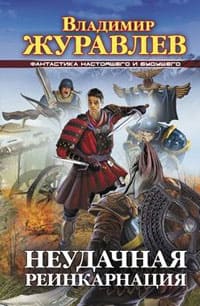 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир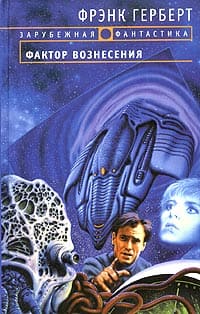 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Корнев Павел
Корнев Павел Круз Андрей
Круз Андрей Плотников Александр
Плотников Александр Прозоров Александр
Прозоров Александр