одна блуждала по окрестностям. Ленивым шагом бродила она по дорогам,
погрузившись в мечты, или же сбегала вприпрыжку по извилистым ложбинкам,
края которых были покрыты, точно золотистой ризой, порослью цветущего
дрока Его сильный и сладкий запах, ставший резче от зноя, пьянил, как
ароматное вино, а далекий прибой баюкал своим мерным шумом.
не, а иногда, увидев за поворотом долины в выемке луга треугольник сине-
го, сверкающего под солнцем моря с парусом на горизонте, она испытывала
приливы бурной радости, словно таинственное предчувствие счастья, кото-
рое ей суждено.
шали ей любовь к одиночеству Она столько времени, не шевелясь, просижи-
вала на вершинах холмов, что дикие крольчата принимались прыгать у ее
ног.
ней трепетало от наслаждения, - так упоительно было двигаться, не зная
устали, как рыбы в воде, как ласточки в воздухе.
поминания, корни которых не вырвешь из сердца до самой смерти. Ей каза-
лось, что она рассеивает по извилинам этих долин крупицы собственного
сердца.
заплывала невесть куда и не задумывалась об опасности. Ей хорошо было в
этой холодной, прозрачной голубой воде, которая, покачивая, держала ее.
Отплыв подальше от берега, она ложилась на спину, складывала руки на
груди и устремляла взгляд в густую лазурь неба, по которой то проноси-
лись ласточки, то реял белый силуэт морской птицы Кругом не слышно было
ни звука, только далекий рокот прибоя, набегавшего на песок, да смутный
гул, доносившийся с земли сквозь плеск волн, - невнятный, еле уловимый
гул.
плескала обеими руками по воде.
легкости, с улыбкой на губах и радостью во взгляде.
риятия: он собирался заняться экспериментами, ввести усовершенствования,
испробовать новые орудия, привить чужеземные культуры; он проводил часть
дня в беседах с крестьянами, которые недоверчиво покачивали головой,
слушая про его затеи.
рестные пещеры, источники и утесы, он пожелал заняться рыбной ловлей,
как простые моряки.
корпус баркаса и когда от каждого борта убегает в глубь моря длинная ле-
са, за которой гонятся стаи макрели, барон держал в судорожно сжатой ру-
ке тонкую бечевку и ощущал, как она вздрагивает, едва на ней затрепыха-
ется пойманная рыба.
Ему было приятно слушать скрип мачты и дышать свежим ночным ветром, на-
летавшим порывами. И после того как лодка долго лавировала в поисках бу-
ев, руководствуясь каким-нибудь гребнем скалы, кровлей колокольни или
феканским маяком, ему нравилось сидеть неподвижно, наслаждаясь первыми
лучами восходящего солнца, от которых блестели на дне лодки липкая спина
веерообразного ската и жирное брюхо палтуса.
в свою очередь, сообщала ему, сколько раз она прошлась по большой топо-
левой аллее, той, что направо, вдоль фермы Куяров, так как левая была
слишком тениста.
Едва только рассеивался ночной холодок, как она выходила, опираясь на
руку Розали. Закутана она была в пелерину и две шали, голову ей покрывал
черный капор, а поверх его - красная вязаная косынка.
вдоль всей аллеи две пыльные борозды с выбитой травой, маменька непре-
рывно повторяла путешествие по прямой линии от угла дома до первых кус-
тов рощицы. Она велела поставить по скамейке на концах этой дорожки и
каждые пять минут останавливалась, говоря несчастной, долготерпеливой
горничной, поддерживавшей ее:
потом одну шаль, потом вторую, потом капор и, наконец, мантилью; из все-
го этого на обеих скамейках получались две груды одежды, которые Розали
уносила, перекинув через свободную руку, когда они возвращались к завт-
раку.
более длительными передышками и даже иногда дремала часок на шезлонге,
который ей выкатывали наружу.
гипертрофия".
лась на одышку, назвал болезнь гипертрофией. С тех пор это слово засело
у нее в голове, хотя смысл его был ей неясен. Она постоянно заставляла и
барона, и Жанну, и Розали слушать, как бьется у нее сердце, но никто уже
не слышал его, настолько глубоко было оно запрятано в толще ее груди;
однако она решительно отказывалась обратиться к другому врачу, боясь,
как бы он не нашел у нее новых болезней; зато о "своей гипертрофии" она
толковала постоянно, по любому поводу, словно этот недуг присущ был ей
одной и являлся ее собственностью, как некая редкость, недоступная дру-
гим людям.
фия", как сказали бы: мамино платье, шляпа, зонтик.
ровала со всеми мундирами Империи, проливала слезы над "Коринной", и
чтение этого романа оставило в ней неизгладимый след.
вились все возвышеннее; и когда ожирение приковало ее к креслу, фантазия
ее обратилась к сентиментальным похождениям, где она бывала неизменной
героиней. Некоторые из них особенно полюбились ей, и она постоянно во-
зобновляла их в мечтах, как музыкальная шкатулка твердит одну и ту же
мелодию. Все чувствительные романы, где идет речь о пленницах и ласточ-
ках, вызывали у нее на глазах слезы; и она даже любила те из игривых пе-
сенок Беранже, в которых выражались сожаления о прошлом.
очень нравилась ей, потому что создавала подходящую обстановку для ее
воображаемых романов, а окрестные леса, пустынные ланды и близость моря
напоминали ей книги Вальтера Скотта, которые она читала последнее время.
то, что называла своими "реликвиями". Это были старые письма - письма ее
отца и матери, письма барона в бытность его женихом и еще другие.
произносила особенным тоном:
ронессы, и та принималась читать эти письма медленно, одно за другим,
время от времени роняя на них слезу.
о своем детстве. Девушка как будто видела себя в этих давних историях и
поражалась общности их мыслей и сходству желаний; ибо каждый думает, что
его сердце первым забилось под наплывом чувств, от которых стучало серд-
це первого человека и будут трепетать сердца последних мужчин и послед-
них женщин.
прерывался маменькиной одышкой, и тогда Жанна мысленно опережала начатое
приключение и устремлялась к будущему, переполненному радостями, упива-
лась надеждами.
что с другого конца аллеи к ним направляется толстый священник.
трех шагах от них, и произнес:
отцом-вольнодумцем и в церкви почти не бывала, но священников любила в
силу чисто женского религиозного инстинкта.
увидев его. Она поспешила извиниться, что не нанесла первого визита. Но
толстяк, по-видимому, и не думал обижаться; он посмотрел на Жанну, выра-
зил удовольствие по поводу ее цветущего вида, уселся, положил на колени
свою треуголку и отер лоб. Он был очень тучен, очень красен и потел
обильно. То и дело вытаскивал он из кармана огромный клетчатый платок,
весь пропитанный потом, и проводил им по лицу и шее; но едва только
влажная тряпица исчезала в черных недрах обширного кармана, как новые
капли испарины падали со лба на рясу, оттопыренную на животе, оставляя
круглые пятнышки прибитой пыли.


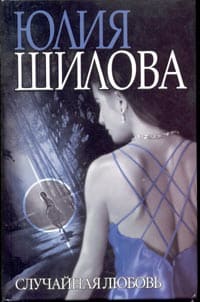

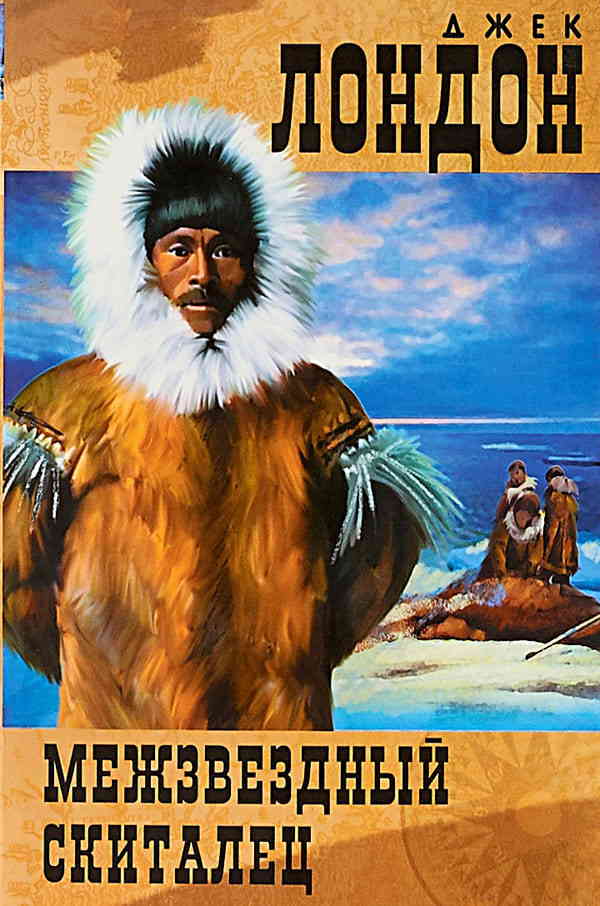
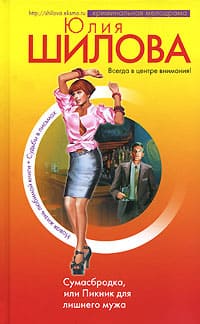
 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна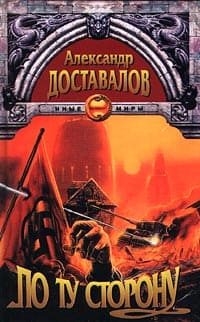 Доставалов Александр
Доставалов Александр Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Контровский Владимир
Контровский Владимир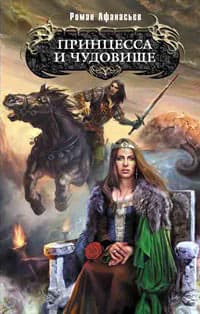 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Земляной Андрей
Земляной Андрей