шалась судьба других, можно было обманываться: это было не так уж важно.
Но когда настал черед нашего мальчика, ошибка - это преступление. Правда
твоя. Что, если война затянется?.. Разберешь разве этих идиотов? Дума-
ешь, дело подходит к концу, а оно начинается сначала. Вот уж и янки
вступили в хоровод! А потом явятся Китай и папуасы! Ну и пусть бы себе
плясали на здоровье! Но наш Марк не будет участвовать в этой пляске!
друзей, любовников, на это еще можно согласиться: они свое от жизни взя-
ли! Но наше дитя - оно наше, для нас, оно у меня, я его держу и никому
не отдам...
военный хирург, генеральный инспектор армии!.. Ему ничего не стоит найти
для Марка безопасное местечко.
Если бы это понадобилось для спасения моего мальчика, ты думаешь, я бы
не отдалась первому встречному?
я не попрала бы ради своего сына!.. Но ради сына, ради его блага.
это он. Он не простил бы мне этого. И я не простила бы себе такой унизи-
тельной для него попытки.
тит или нет. Лишь бы только его спасти!.. Ладно! Если ты этого не сдела-
ешь, так сделаю я...
себя беду.
зость, которая теперь связывала сына с матерью, Марк проводил дни у себя
в комнате молча, и Аннета уважала его одиночество. Она ждала, когда он
придет к ней сам. Она понимала, какой глубокий процесс совершается в
нем. Процесс созревания и очищения. Кризис, тянувшийся целых четыре го-
да, кончается.
дил самого себя, как и других, безжалостно. Чтобы смирить жгучие потреб-
ности своей бунтовавшей природы, он подчинил ее суровой дисциплине:
строгая жизнь, строгая мысль. Последние бои с самим собой были не из
легких. Он вышел из них разбитый и обожженный страстным стыдом и муками
совести, но под пеплом осталось твердое, здоровое, неповрежденное ядро.
созревший мозг: те, которые он почерпнул в книгах, у философов, у влас-
тителей дум его поколения. Устояло лишь очень немногое. Жалкие крохи.
Остальное - пустые слова, не облеченные живой плотью. Ни одно из этих
слов не стало делом. Кроме одного. Оно, это слово, отлито из железа, оно
- продукт века машин, оно превратило человечество тоже в безвольную ма-
шину, внутри которой один класс, слепо, как молот, крушит другой. Ни од-
ного свободного действия. Ни одного действия, идущего из души. Ни одной
свободной души, которая претворила бы в действие свои чувства. Нет воли,
которая высвободилась бы, как молния, из облака мысли, из скопления дви-
жущейся материи.
в воде...
читал священные книги). В "Израиле" он прочел: "Er sprach das Wort"
[81].
Равусса, владельца кабачка и дровяного склада, жившего в первом этаже. И
он преуспевал. Этот субъект нагулял тройной слой жира; багровый, потный,
шумливый, он шаркал стоптанными башмаками и, казалось, лопался от пере-
избытка золота и здоровья. Теперь, набив свою мошну, он дожидался возв-
ращения сына, чтобы сесть, как Филопомен, на землю, которой он обзавел-
ся... Но сын не вернулся. Труп Кловиса повис где-то на колючей проволо-
ке. В то утро, когда получилось это известие, снизу поднялся, разносясь
по дому рев - рев быка, которого убивает неумелый мясник... Для чего он
трудился, для чего накопил кучу денег!.. Толстяк свалился, сраженный
апоплексическим ударом... Потом он, с затекшим глазом, еле ворочая язы-
ком, опять появился, на дровяном складе. Но его уже не было слышно: боч-
ка рассыпалась.
па в Артуа, в госпитале, где она ухаживала за ранеными под перекрестным
огнем двух армий. Давно уже она ждала этого часа! Она воссоединится с
женихом... Увы! Если бы она верила в это так, как жаждала верить! Но это
не так просто, как думают эти бедные люди: захоти - и поверишь! Воля от-
пирает все двери души, но останавливается у самой последней, а в ней-то
и вся сила для души, которая чего-нибудь стоит!.. Боже мои! Если бы уве-
ровать, что существует хотя бы ад, где ты будешь вечно - гореть вместе
со своим возлюбленным!.. Но верила она или нет, теперь она освободи-
лась... Или этот нежный цветок, возвращенный в землю, чтобы питать собою
другие цветы, которые тоже поглотит смерть, так и не найдет свободы?
носа и без челюсти (государство великодушно преподнесло ему другую, па-
тентованную, с гарантией на два, самое большее на три года, при условии
осторожного обращения). У него дрожали руки, плохо слушались ноги, как у
ребенка, который учится ходить. Зато он был награжден орденом. Мать об-
волакивала его своим нежным, сострадательным взглядом; она все же была
счастлива и гордилась сыном. Он опирался на руку старушки, когда они вы-
ходили, ковыляя, на свою обычную прогулку. Им жилось трудно. Но, запас-
шись терпением, можно было кое-как свести концы с концами. Мать и сын
Кайе полагают, что все еще сложилось очень удачно.
драгоценное здоровье и даже свой разум на этой благородной службе. Все
отступники отличаются склонностью к преувеличению. Клапье так кичился
своей новой деятельностью и так яростно преследовал своих бывших сорат-
ников-пацифистов, их веру и взгляды, которые он еще так недавно сам ис-
поведовал, что в конце концов вообразил гонимым себя! Он считал себя не-
винно оскорбленным, когда те, кого он преследовал, отвечали ему презри-
тельным молчанием и поворачивались к нему спиной. Он вопил, что в его
лице поругано отечество. Это было опасно для других. И для него тоже. Он
легко мог угодить в сумасшедший дом.
сущности, стражем мира, процветал.
этого кладбищенского стража?.. Давай, мама, скорей поднимемся в наш ко-
лумбарий!
жалости, он - с оттенком гадливости к этой пещере Полифема - к дому, го-
роду, миру, где каждый из заключенных терпеливо ждет своей очереди быть
съеденным.
руками поднятые колени, он долго не отрывал от нее полного решимости
взгляда. А она впилась в него глазами... Боже, до чего она приросла к
нему!.. Но он больше не будет злоупотреблять этим. Она - его сокровище.
отреклись от него.
продолжают носить личину.
против нее. Я помню, что вначале радовался ей. А ты приняла ее. Что же
изменило нас?






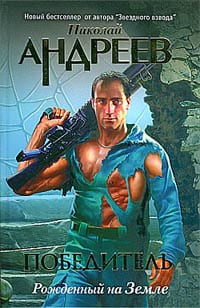 Андреев Николай
Андреев Николай Прозоров Александр
Прозоров Александр Каменистый Артем
Каменистый Артем Ларссон Стиг
Ларссон Стиг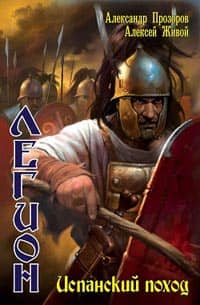 Прозоров Александр
Прозоров Александр Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна