вспоминает полный мышами сарай и вздрагивает от омерзения... Близится
Тверь.
согрела. Немного оттаяла душа. Теперь, без государыни-матери, в ней одной
находил Михаил защиту от тяжких дум и гнетущего холода вышней власти.
Прошел в покой, омыл лицо и руки. Мальчики ждали отца. Страшился о них -
нет, не заболел никоторый! Митя и Сашок, и самый меньшой, Костюшок, на
руках у мамки. Старшие - высокие, большеглазые отроки. Хороших детей
рожает ему Анна! Сыновья сказывали о своих заботах и горестях, об ученьи.
Михаил кивал, слушал вполуха. Анна улыбнулась с мягким укором:
одном и об одном, на все ведь воля божья, хоть того боле себя мучай!
глаза. - Мышей ныне зрел. Тьмы и тьмы! Кишат, гадят... Не мощно вынести
взору. Голод грядет!
от его руки, пошла наливать квас. Склонилась, высокая, легкая, не ответила
ничего, а как-то и успокоила словно.
князем, словно легче было, не жалеешь?
данной, не отступить. Мне о том дати отчет Вышнему!
Она вновь улыбнулась мягко, чуть заметно, и подала чару. Мальчики слушали,
не совсем понимая.
любимый вопрос Митя и, не давая ответить, добавил торопливо: - Ведь Тохта
тамо, в Орде?
пушистую русую голову сына. Слуги внесли новую перемену блюд, и Михаил
вновь подумал, что здесь, в этом тереме, голода не увидит никто, и
неизвестно, хорошо ли это, хотя поделать и тут ничего нельзя, и не волен
он, даже ежели восхощет, заставить голодать великокняжескую семью. Да и не
поймет этого никто, даже те, с синими лицами, умирающие по дорогам, не
поймут и осудят. Иные, высшие заботы возложены на него Богом и людьми, и
ради тех, высших забот даны ему пышный стол, высокий терем, платье
цветное, блеск и узорочье власти, окружившей его. И все же, - и потому
такожде, - он один в ответе за них и за тех, мрущих по дорогам...
(Господи, дай на час малый забыть о беде, дай отдохнуть от трудов
господарских, Господи!)
бояре и дружина на сенях, спали холопы и слуги. За задернутым шелковым
пологом плыла тишина. Спала земля, отдыхая от дневных трудов. Изографы
отложили кисти, монахи-писцы - перья. Ученые книгочии спят, видя
торжественные сны. Спят в теремах и избах. Спят и бредят больные, стонущие
во сне. Не спит лишь мать у постели недужного дитяти, и не спит князь
великий у себя в терему.
законы и очистил землю от разбоя и татьбы. Покарал судей неправедных. Он
учит детей и держит их в строгой простоте, дабы и в детях воспитать, паче
всего, долг и обязанности, а не похоть и гордыню власти. Он милостив к
низшим, заботен ко мнихам и монастырям, рачителен к научению книжному. И
вот: язва, и близкий глад, и скотий мор, и мышей нахождение, и смерть
государыни-матери, а прежде - смерть княжича Александра, смерть,
погубившая все его дело на Москве... И неудача с митрополитом, и рознь с
Волынью... Ведь выбирала его земля! За что же такое? Почто? Чем согрешил
он перед божьим престолом? Коликими казньми еще казнишь мя, Боже?!
тления? Но не прейдет время то, и не выстоит и исчезнет Русь, ежели все, и
тем паче он, глава, помыслят переждать, пересидеть, не противясь, сами
склоняясь перед чуждою силою, яко волынский шурин Юрий! И что же тогда?
Будут изворачиваться, верить, что в бессилии - мудрость змиева, и паки
погубят и Русь и себя... А потом, словно волны окиян-моря, Литва и Орда с
двух сторон затопят его лесную многострадальную родину, затопят и сомкнут
воды свои над этой померкшей страной. Погибнут князья, падут храмы, и сам
язык русский исчезнет в волнах чуждых наречий, и сама память изгладится о
племени, некогда сильном и сотрясавшем землю... Или останут некие по
лесам, в черных избах, и даже речь сохранят, и будут вспоминать порою, что
вот <было когда-то и у нас!> - но все реже и реже, и загаснет память, и с
нею умрет народ, рассыплется по земли, яко порванное ожерелие... Так
должен кто-то стать вопреки тому и в нынешнюю глухую годину! Стать, и
нести крест, и боронить, и вершить подвиги, даже зная, что обречен
временем и годиною своей! Не к тому ли казнит и не на то ли указует ему
Господь жезлом железным? Или он виновен в чем, что вс° так вот наниче и
попусту? Дай силы, Господи, верить и устоять! Дай силы. Господь, устоять,
даже и не веря! Хранил же ты меня в путях и ратях, от мора, меча и нужныя
смерти! Ведомы тебе одному пути судьбы, и в руки твои предаю дух свой! Дай
силу творить и дай веру верить не уставая!
думу, великий князь Русской земли.
гостей. Чинно встают, кланяются и снова садятся рядом на лавку. Две из
них, курносые и широкоскулые мерянки, поглядывают любопытно на третью,
беленькую, высоконькую и долгоносенькую Степанову дочь. Мерянки выходят за
близняков - сыновей Степана, а дочку выдает Степан за сына Птахи Дрозда, в
мерянскую семью. Впрочем, молодых порешили выделить, срубив им новую
клеть. Так настоял Степан, чести ради.
старухи с клюками, вездесущие молодки и шустрые девки, губатые,
круглоглазые, аж запыхавшиеся от восторга и нетерпения, - свадьба! А тут -
тройная! И невест сразу три! Не стесняясь, громко, обсуждают невест. Те
терпят, лишь вспыхивают. Иная гостья такое скажет - хоть ничью пади. А
отмолвить нельзя - свадьба! Вечером - девичник. Будут водить хороводы,
петь русские и мерянские, вперемежку, песни, но больше русские, которые
местные девки поют, отчаянно перевирая слова. Будет седой мерянский колдун
обносить молодых, заговаривать от лиха, от сглаза, от черной и белой
немочи, от злого ворона и лихого человека, будет ворожить, женихам -
стояло бы твердо, яко скотий рог, невестам - на сухоту-присуху, чтобы без
своего суженого не пилось, не елося, ни спать, ни дневать не хотелося.
Этою ночью молодых положат уже спать вместях, а назавтра монах, нарочито
позванный из монастыря, перевенчает все три пары, и настанет
заключительное торжество: большой, или княжий, стол... Это завтра, а
сегодня смотрят невест и гуляют до вечера мужики.
молодых перевенчали еще весной. После похода многое перевернулось в душе у
Степана. Допрежь того сто раз подумал бы он еще: отдавать ли дочерь за
мерянина? А ныне и на Марью прикрикнул: <Кабы не Дрозд, не воротили бы и
домовь!>
забывал, что обязан Дрозду жизнью, а Птаха Дрозд, знавший про себя, что и
он без Степана ничто, прикипел сердцем к соседу не шутя. Зимой и охотились
вместях. Подлечив парня, выходили целою загонной дружиной. Двух медведей
взяли живьем и выгодно продали боярину, свезя в Бежецкий Верх, набили
лосей, навялили и насолили мяса. За бобровые шкуры выручили серебро, коим,
не делясь и не очень его считая, выплатили ордынский выход и княжую дань.
Мор, по счастью, не проник в их глухую деревню (да и узнавши, что почем,
сами береглись, не совались бесперечь туда, где слыхом слышали про
болесть). Миновал их и скотий падеж, а мышь, осеннею порой наводнившая
леса и пажити, тут тоже мало наделала беды. Допрежь спасу не было от
хорей, куниц и ласок. Ястребы и совы, бывало, воровали кур. А тут все они
пригодились нежданным побытом. Для мыши все они - главные вороги, и,
шныряя по дворам, лесные разбойники сотнями давили мышей прямо на глазах.
Потому, верно, высокие, на подтесанных в кубец ножках анбары оказались
невереж°ны, да и хлеб частью удалось спасти. Иван Акинфич, получивший по
миру свои переяславские волости, не прижимал их тут излиха данями, иное и
простил по тяжкой поре. И так, не заглядывая далеко вдаль, не горюя о
проторях, радуясь и тому, что жизнь идет своим заведенным побытом,
непорушенною чередою дневных трудов и короткого ночного отдыха, деревня
выжила этот год и даже строилась, а значит, богатела, ибо только от
твердого зажитку берется смерд за топор.
девки и бабы в другой хоромине. Степан во главе стола, в обнимку с Птахой.
Тут же принаряженные отцы невест: пробуют пиво, и уже напробовались в дым.
Перебивая друг друга, спорят с веселой яростью, то и дело поминая князь
Михайлу и старые обиды свои.
то, ты, Птаха, в ум не бери, а только - срубил? Ну! Дак вот я теперя
скажу: величаешься ты, Степан! Меря мы, меря и есь, дак и чево тут! Ну?!
Хуже, да, хуже русичей? Не-е-е, ты отмолви, Степан, хуже, да?!
давать? Ты, Дрозд, молчи, молчи пока! Я Степана хочу прошать! Вот мы тута
вместях и на рати вместях, да? И как же так получатца, значит? А мы меря,
меря и есь, и вс°! Дак ты как же, Степан, а? Тиха! Тиха-а-а, мужики!


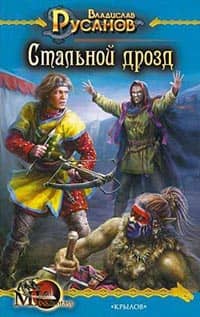
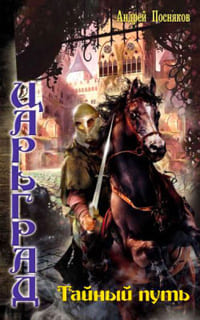


 Контровский Владимир
Контровский Владимир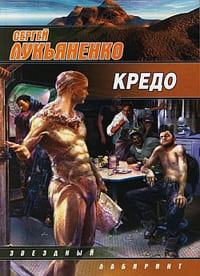 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий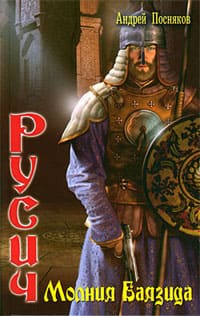 Посняков Андрей
Посняков Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр Махров Алексей
Махров Алексей