принялся что-то объяснять, взмахивая руками. В темноте начался спор.
присутствием Бориса с дружиной. - Как князь Михайло скажет, так и пущай! А
ето што: какой хошь проезжий-прохожий вали в Кострому! Неча! Даве два
анбара в торгу разбили! И все разорят!
спорщик, яростно махнув рукой, бросил:
тронув вскачь, исчез в темноте.
отмахнулся:
невестимо. Бориса прошали: как быть, что делать? Он не знал. Велел ждать,
не спешиваясь. У самого начинало болеть все тело, руки, ноги, отбитая
поясница. Мучительно хотелось слезть с коня, размять ноги, но, заказав
другим, он и сам себе не позволял уже спешиться. Ратные дремали в седлах.
Костромичи, кто безразлично, кто и враждебно, сновали мимо них. Борису так
уже захотелось спать, что стало все равно. Дрожь пробирала, в глазах
мутилось и плыло. Он вздрагивал, словно конь вздергивая голову, что-то
отвечал, кого-то от чего-то останавливал, сам уже не понимая толком, кого
и от чего. На миг показалось ему, что половина дружины куда-то исчезла, и
он испугался до холодного пота, даже сон временем соскочил. Наконец-таки
появился Юрий Василич, захлопотанный и довольный.
оборотясь к подъехавшим молодшим: - Зови всех!
освещаемой двумя факелами, пробирались внутрь длинной, в несколько связей,
бревенчатой избы, видно - княжеской молодечной, и там тесно впихивались на
лавки за долгими прокопченными столами. Коням дали овес, ратные, теснясь к
котлам с горячими щами, жрали, сопя и толкаясь ложками. Сам Борис,
которого протащили куда-то за угол, потом запихнули в калитку и оттуда уже
ввели в высокий терем, где представили четырем незнакомым боярам, тоже
наконец оказался за обеденным столом и сейчас уписывал за обе щеки мясные
пироги и кашу, давясь, краснея, что не может оторваться от еды, и виновато
взглядывая на старого боярина Захарию, что молча, без улыбки, ждал, когда
насытится московский княжич. (В недавней замятне у Захарии убили взрослого
сына, Александра, кинувшегося на выручку Ивана Жеребца.) Наконец Борис
почуял, что сыт, но тут же на него начал наваливаться предательский сон.
Он уже плохо понимал, о чем говорил Захарий Зерно, только одно врезалось,
когда Захарий, помавая головой, отмолвил Юрию Василичу:
ярлык получит!
утерял нить спора и вовсе перестал понимать, о чем речь. Наконец,
сжалившись над княжичем, Юрий Василич отпустил его спать. Борис вышел,
качаясь, как пьяный, ему отворили низкую дверь в какую-то горницу, и он, в
темноте ткнувшись в мягкое, мгновенно уснул мертвым сном.
площадью, где сникла на время ночная суета и сторожа дремали у погасающих
костров, а Юрий Василич Редегин с Захарием Зерном все еще сидели за
столом, дотолковывая, оба понурясь от усталости, и Захарий невесело
повторял, в одно с давешним мужиком:
заперты, сторожа вся в лежку. До княжеских погребов дорвались, вишь!
Теперь, доколе не проспят, ничего и вершить нельзя. И мне невмочь.
Александр вот... - Захарий приодержался и вдруг, опустя голову, молча
заплакал, вздрагивая, и Юрий Василич, насупясь, отворотил чело, пережидая
невольную слабость старика...
изломанный, наконец встал, выбрался на свет, застегиваясь на ходу. При
свете дня плохо узнавалось место. Кабы не свои кмети, он бы, верно, долго
проискал и прежнюю калитку, и молодечную, и ворота детинца, из которых уже
выезжали к площади вооруженные москвичи. Оказывается, пока Борис спал, в
городе началась чуть ли не ратная свара. Улицы заставили рогатками,
отверстые давеча ворота заняли кмети какого-то боярина, врага Захарии, и
не пропускали никого ни внутрь, ни наружу. В нижнем конце забили набат и
собралось вече. Купцы оборужали своих молодших и, загородившись бревнами и
дрекольем, словно в осаду, засели в торгу, оберегая анбары с добром. Люди
Захарии едва еще удерживали детинец и две улицы, ведущие к пристани. На
прочих шумели расхристанные, озверелые вечники, сшибались, вздымая колья,
ватаги чьих-то, явно нанятых, молодцов. Уже в двух-трех местах вспыхивали
пожары. К счастью, опамятовавшие после вчерашней пьяни горожане не давали
ходу огню. Какого-то мужика, принятого за поджигателя, схватя, казнили без
милости.
куче (не растерялись бы), порысил за толпой костромичей, валивших к
пристаням. Уже по пути ему дотолковали, что тверская боярская помочь,
стоявшая на том берегу Волги, на перевозах, вздумала из утра захватить
город, и сейчас на берегу, верно, идет бой.
почуяв свой голос.
брехлив непутем!
вздымались колья и лезвия рогатин и топоров. Вдали, едва видные за
головами толпы, маячили верхоконные тверичи. С той и другой стороны
яростно орали. Тверичи наезжали конями, и их, видно, хватали за поводья,
осаживали. Толпа колыхалась, как полая вода в ледоход. Борис хотел было
пробиться вперед, но пробиться не было никакой возможности. Тем часом к
ним приблизился, яростно работая плетью, какой-то боярин и, сложив ладони
трубой, вопросил:
коня, прорвался наконец к ним и, едва отдышавшись, велел вспятить и
подняться на бугор.
велел дружине валить к бугру. Боярин вновь врезался в толпу и начал
отдаляться от них. Пожав плечами, Борис поднялся на песчаную гриву
прибережья и, оказавшись над толпой, увидел лучше происходящее на берегу.
Там вс° еще спорили, вс° еще грозили, кто плетью, кто оружием. Но вот
наконец тверичи поворотили и стали заводить коней на дощаники. Борис тут
только понял, что им велели выстать нарочно, дабы показать тверичам
оружную московскую помочь и тем вспятить их дружину обратно, за Волгу.
Понять, однако, кто все это затеял, ему так и не пришлось. Юрий Василич,
встретивший их у собора, оказалось, ничего не знал, не ведал и весь
перепал было, не найдя Бориса с дружиною. (Он, пробыв двое суток без сна и
на ногах, не выдержал и уснул на рассвете.)
что-то совершить без своего окольничего, он отправился в стан костромичей,
укрепившихся в нижнем конце, мысля уговорить их признать власть князя Юрия
Московского. Его пропустили через рогатки, угрюмо выслушали и, не сказав
ни да ни нет, отвели назад. Юрий Василич, завидя Бориса, только лоб
перекрестил: как и не забрали! И строго-настрого воспретил ему на будущее
соваться одному куда бы то ни было.
кмети, вместе с московскими ратными, берегли улицы. Борис, посаженный
Юрием Василичем чуть ли не под замок, ждал, изводясь, бродил по палате,
дремал сидя и уже видел, что всем было не до него - и Юрию Василичу, что
спал с лица и только забегал изредка проведать, на месте ли княжич, и
костромским боярам, что становились все угрюмее и почти перестали отвечать
на вопросы Бориса. Свои тоже взглядывали на него тревожно или с
торопливыми ободряющими улыбками и бежали по делам. Он же сидел - живым
залогом братних замыслов, удостоверяя собою волю Москвы, - и пытался хотя
по лицам понять, что же творится во граде? То ему казалось, что одолевают
<свои>, то, что все уже потеряно и пора бежать вон из Костромы. Ввечеру
Юрий Василич зашел, свалился на лавку, отер потное чело, поглядел на
Бориса и тоже молвил, стойно давешнему мужику:
ругнувшись, добавил: - И п°с их знает, чего хотят? Тверских бояр, вишь, не
пущают в город, а нас... нас тоже... тово... - Он не договорил, замолк и
помутневшими оловянными глазами уставился в столешницу. Потом встряхнулся,
сильно потер лицо ладонями, встал, шатнувшись:
пользу тех ратных, что стояли в стороже. И вот началась другая ночь,
полная смутных шорохов, громкого ржанья коней и топота копыт, тревожного
звяка оружия и набатных голосов в дальних концах Костромы.
снявшись с постов, люди Захарии Зерна покинули детинец. Московская дружина
осталась одна, без еды и сена, осажденная сама не зная кем. Уже на позднем
свету Юрий Василич принес Борису два сухаря и кружку воды. Сказал
смущенно:



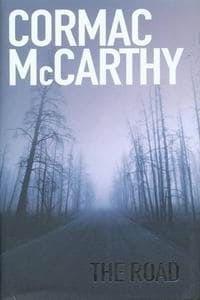


 Шилова Юлия
Шилова Юлия Маркеев Олег
Маркеев Олег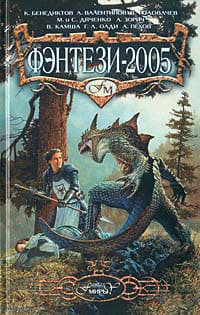 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Свержин Владимир
Свержин Владимир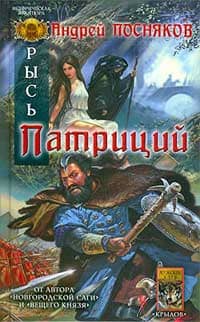 Посняков Андрей
Посняков Андрей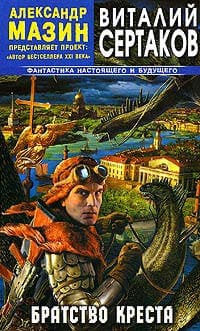 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий