Дмитрий Михайлович БАЛАШОВ
ВЕТЕР ВРЕМЕНИ
несуществующее, словно движение времени, внятное оку лишь по изменению
тварных сущностей: разрушению древних храмов, одряхлению и смерти нынешней
торжествующей молодости...
проносясь рваными лохмами над головою, почти цепляя верхушки смятенно
шумящих дерев, волнуется море, ныряют в волнах утлые, со вздутыми
ветрилами, отчаянные корабли - это ветер! Гнутся упруго набухающие почками
ветви, прихотливым японским рисунком прочерчивая пухлую синеву небес,
мощно гудят, посверкивая светлыми изнанками листьев, тяжелошумные кроны
летних дерев, жалобно и скорбно трепещут осенние мокрые осины, прореженные
донага, в ржавых пятнах последней жухлой украсы своей, гнутся, никнут, уже
нагие, почти лишенные цвета кусты, серо-сиреневые в морозном лиловом дыму,
обтекаемые серебряными лентами зимних метелей, - все это ветер, только
ветер! Один и тот же - и разный в разную пору свою. Как и время, как и те
же самые (и такие иные!) катящие сквозь и вдаль волны годов: радостные и
живительные юному произрастанию, тревожно-стремительные - молодости,
требовательные - мужеству, горько-скорбные - старости и увяданию.
земли. И только гусиное (железное, тростниковое ли) перо летописца дерзает
удержать на ветхих страницах харатий приметы текучего вихря, исчезающего в
небытии. Трудись, летописец! Ветер времени листает страницы судьбы.
растревоженный мир. Вихрь зачинается на далеких окраинах вчера еще грозной
монгольской империи, сотрясает древнюю Византию, заливает ратной грозою
страны Запада. И только в центре этого вихря, в середине беды, там, куда
сходят незримые нити желаний и воль, на Руси Владимирской, стоит
обманчивая, недобрая тишина.
в ближайшие годы. В лето 1352-е, когда он еще боролся со смертью,
поднялось восстание в южном Китае, столетие назад завоеванном конницею
Хубилая, и разбитые монголы отступали на север страны. Так, с краю, треща
и заворачиваясь, открывая дорогу огню, загорается положенная на костер и
почти задавившая пламя конская шкура. Раздуваемые упорным ветром жаркие,
беспокойно-яростные языки, взметываясь и сникая, настойчиво лижут дымные
края, обращая в рдяный пепел тугую жесткость недавнего бремени своего.
силой: распадается государство Хулагуидов в Персии, где после смерти
ильхана Абу-Саида настало крушение всякого права, кроме права силы, чего
выдержать не мог уже никто, и уже оттуда в Золотую Орду, к хану Джанибеку,
спустя лишь год после Семеновой смерти, с мольбами о помощи, просьбами
вмешаться и навести порядок в стране прибегают ограбленные Ашрафом
граждане во главе с духовным судией - кади. Прибегают, поскольку хрупкая
тишина, обманчивый мир еще стоит, еще зиждит здесь, на Волге, и пока еще
не видит никто, что подточенная тем же размывом Золотая Орда тоже грозит
рухнуть в беснующийся провал кровавой резни и смут.
Великого шелкового пути, ведущего из глубин Китая через Турфан и Хорезм в
Персию, а через ордынские степи и Кафу в Константинополь и страны Запада.
Опустеют базары, лишатся навычного труда руки неутомимых мастеров;
крестьянина, оторвав от кетменя или сохи, погонят ратником в поле, и
пойдет волною: только топот кованых копыт, да сабельный блеск, да пожары,
да слезы полоняников на дорогах, да плач сирот по разоренным погостам...
князей: Ивана Калиты и Семена, скрепивших до времени ордынскою волею
благополучие владимирского великого стола, и Руси вновь придет решать: с
кем она? Как устоять, уцелеть в сей гибельной круговерти?
греческому морю. Князья Гедиминова дома, отбрасывая раз за разом татарские
рати, захватывают, забирают под себя древнюю великую Киевскую Русь - город
за городом, волость за волостью (а латинские попы меж тем деятельно
хлопочут об обращении в католичество литовских язычников и вкупе
завоеванных ими русичей!). И уже яснеет, что недалек день, отодвигаемый
доднесь твердой рукою Семена Гордого, когда и с этой стороны тишину
взорвет ярость ратной грозы и хлынут литовские всадники на земли Московии.
юго-запад, то и там не узришь добра, ибо турки-османы, проглотившие за
полстолетия последние малоазийские владения ромейской империи, словно бы
даже едва дождавшись гибели великого князя владимирского, что поддерживал
русским серебром далекого Кантакузина, в том же 1353 году тигриным прыжком
перемахивают проливы, начавши отсюда свой, гибельный для балканских
государств, растянувшийся на столетия поход. И этой беды никто не видит,
не зрит, не постигает умом, ибо и Сербия и Болгария тратят силы в тщетной
борьбе с умирающей Византией, не ведая о нависшей над ними грозе, не чуя
близкой трагедии Косова поля!
Цареграда духовное одиночество зримо обступает православную Русь, зажатую
меж католическим и мусульманским мирами. И не разделит ли она со временем
судьбы Фракии, Болгарии, Сербии, Мореи, Армении, Имеретии и прочих стран
Византийской ойкумены, разоренных, поруганных, на века утерявших
государственную независимость свою?
древний Галич; вихрь уже обрушил Францию, первое государство западного
мира, утратившее в битве при Креси (1346 г.) честь своей армии, а вскоре,
в сражении при Пуатье (1356 г.), где под стрелами английских йоменов
побежит в панике огромное рыцарское войско и сам король Иоанн Добрый
попадет в плен к англичанам, - даже и независимость свою. А там уже
наступит такое, с чем не в силах будут совладать ни король, ни папа,
засевший в Авиньоне, ни англичане, ни ополчения вольных городов, и уже не
за горами Жакерия, разбойничьи походы вдоль и поперек Франции и резня,
резня, резня, при которой любые усилия власти, любые заботы о грядущей
судьбе государств - та же помощь обреченному Константинополю - станут
дымом, химерою, несбыточною мечтою политиков и папских прелатов.
и только здесь, на Руси Владимирской, еще стоит, еще хранит себя неверная,
грозно означенная неспокойно вздыбленными (все ближе и ближе!) окраинами
тишина.
полуразложившиеся тела, застывшие в корчах, в которые бросала их зимою под
вой метели <черная смерть>, были страшны. Откуда прибрел, харкая кровью,
тот или иной селянин, нынче было никому не ведомо. Мертвецов хоронили
безымянными, в общих скудельницах. Всех вместе и отпевали. Над Москвою,
над Кремником тек непрестанный погребальный звон.
И как-то уже притупело у всех. Не было того, летошнего, темного ужаса. Не
разбегались, не шарахали посторонь. Отворачивая лица, подымали, выносили
усопших. Каждый знал, ведал: завтра возможет приспеть и его час. И
все-таки, когда летом в обезлюженной, пустынной Москве пронесся слух, что
занемог старый тысяцкий Василий Протасьич, злая весть всколыхнула весь
посад. Город, упрямо державшийся, невзирая ни на что, до сих пор, разом
осиротел. Тьмочисленные толпы, небрегая заразой, потекли в Кремник, к
высокому терему Вельяминовых.
надо косить. Никита вышел за ворота, постоял, сплевывая. Не парень, мужик
уже! Нераспробованная вдосталь Надюха напомнилась до беды. Все стеснялась
еще, как девка... В одночасье свернуло <черною смертью>, пока ездил в
Красное... И ладно, что не зрел мертвую! Досыти нагляделся их,
почернелых... И все блазнит, словно выйдет из-за угла с обведенными тенью
ждущими, сияющими глазами и, теряя дыхание, безвольно роняя косы, растает
в его руках...
дух бродил в крови. Колокола звонят и звонят: вымирает Москва! А бабы -
как шалые. Мор пройдет, дак нарожают того боле!
жива, падина!> - зло подумал о матери, переведя плечьми. Род! Ихний,
михалкинский, федоровский род гибнет! В вечной грязи по уши, пото и не



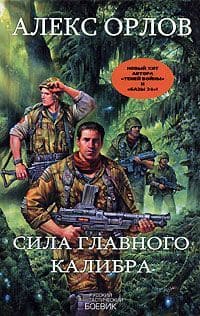

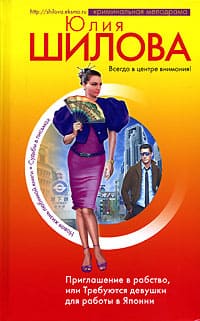
 Контровский Владимир
Контровский Владимир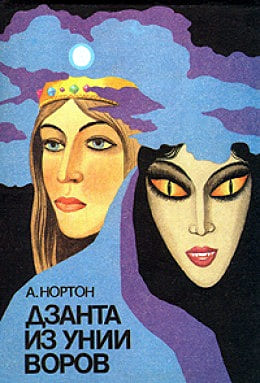 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ Корнев Павел
Корнев Павел Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий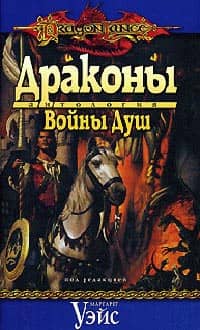 Грабб Джеф
Грабб Джеф Круз Андрей
Круз Андрей