уберегла! Она от грязи, бают, того пуще находит, <черная смерть>. Може, и
от иного чего? Тоже сколь их перетаскали, мертвяков, с Василь Протасьичем!
Сколь и своих схоронили, дружины! А ему вон о сю пору как с гуся вода! И
не страшно чегой-то! Верно, на роду не писана она, <черная смерть>. <Чур
меня, чур! - одернул себя Никита. - С выхвалы, гляди, и сам закашляешь
кровью...>
своего. Отмотнув головою матери: <Недосуг, годи!> - шагнул встречу.
подпругу, мать выбежала с блюдом пирогов. Шало глянул, едва не ругнув, но,
подумав мгновеньем, сунул за пазуху полпирога: невесть, нынче и накормят
ли!
Семен Иваныче - как-то станет ихнее (не отделял уже себя от Протасьева
дома) бытье? Сурово подумалось о боярине Алексее Петровиче Хвосте - отмел,
и, уже вваливши в седло, подумал вновь. Тыщи народу погибло на Москве, и
все одно: смерть старого тясяцкого опахнула грозою. После князевой,
раскинув умом, подумал и понял про себя Никита, самая тяжкая будет утрата
на Москве!
подъезде узрел и постиг сущее: бестолочь в доме, толпы у терема,
растрепанная прислуга, кмети, сбившиеся в кучу... <Стойно овцы!> - Никита
ругнул о-себе.
(словно величие отца ушло и осталось одно только темное) шатнулся встречу
ему в сенях. Рослые сыновья бестолково путались у него под ногами.
пробормотал: - Поди, тамо... - Не кончив, махнул рукой.
поймешь. Охнула, увидя мужиков, побежала прочь...
и неложному ропоту горя - наполняла просторную повалушу. Никита, пройдя
через и сквозь, подступил к ложу. Умирающий глянул тускло - прошли,
видать, сотни, и уже неузнаваемые, - но присмотрелся, понял:
одни. - Не боялся ее, черной, ан настигла... Москвы, Москвы постеречь
подмоги, сыну-то...
припал лбом к откинутой бессильной руке. У самого захолонуло: <А ну как
зацепит напоследях?> Но и удаль: перед великими боярынями, перед толпою
знати не показать опасу, не уронить чести своей. Встал, невеселой усмешкой
отверг одобрительные глаза женок. (Воину на рати б умирать, а не так!)
мы с тобою мертвяков на Москве!
словом:
Помолчал, пожевал губами, спросил себя: - Владыка едет ли?
уже отступить посторонь: набольшие тута!
не зрел - из ближних, видать, а незнакома!
мимолетном взоре и круче повел плечьми, отступя, еще раз оглядел ее, уже
отвернувшуюся: невысока, стройна... Почти в монашеской сряде - кабы
заместо убруса на голове куколь... Кто ж такая-то?! Словно всех женок
вельяминовских знал наперечет! Гостья? А держит себя - словно своя!
обширные сени. Звал Василь Василич. И совсем стороннею мыслью прошло: вот
бы обнять такую... Поди, и уста не те, и иное прочее не под нашу стать!
Поглядеть и то в кутерьме этой только и довелось!
княжого двора хвостовские наших теснят! Поглянь! (Вот оно, наступило!
Торопитце Алексей Петрович Хвост, ой, торопитце!)
потерявшие строй, растерянные кмети:
кожею учуял мгновенную растерянность Вельяминова: тысяцким во след отцу
должен его ставить новый князь... <Ну, да ведь Протасьич ищо не померши!>
- подогнал себя Никита, хоть и знал, как и те, хвостовские, что от
<черной> спасения нет.
брани поносной, но хошь без мертвого тела обошлось), когда очистили двор и
наряды свежей сторожи вельяминовской прочно стали у княжого терема,
погребов и ворот Кремника, Никите, что был на спуске за Фроловскими
воротами, подомчавший вершник донес, что Василий Протасивич совсем плох и
уже при конце. По перепалому лицу догадав остальное, Никита пал на коня и,
с бранью расталкивая дуроломную толпу, подскакал к Протасьеву терему,
остолпленному плачущим и ропщущим народом. Уже у крыльца понявши, что
Василий Протасьич ежели не умер, то вот-вот помрет, решительно распорядив
сторожею, врезав плюху растерянному ратному, полез на крыльцо. Жалкие
женочьи голоса сверху из горницы и вопли дворовой чади не дали обмануть
себя. Подосадовав на Василь Василича - опоздал-таки! - он в полутьме
переходов лез, пихал кого-то и уже при дверях, на последних ступенях,
заторопясь, почти в объятия ухватил, так что ощутил тепло живого тела и
тонкий аромат аравитских благовоний, встречную женку боярскую. Еще полный
тем, дворовым задором, решительно повернул к себе и обмер: то опять была
она! Рыдающая, в сбившемся убрусе и очелье. Боясь оскорбить (а кровь
жарко, толчками ходила в груди), под локти проводил, почти занес в
какую-то малую припутную клеть, верно, девичью горницу, в темноте опустил
на какую-то подвернувшуюся лавку. И пока она, с плачем роняя полуслова,
полувсхлипы: <Не могу, не могу!> - и что-то неразборчиво о себе, о своем
давнем горе, Никита, страшась укромной темноты и себя самого, нашаривал и
нашарил наконец свечу, запалив огарок от лампадного, чуть видного пламени.
она такая и почему не зрел ее допрежь в терему Протасьевом. Вызнавая,
лихорадочно прикидывал: кем же она Василь Василичу доводитце? А в голове
пожаром, войною билось одно: <Упустишь, потеряешь!>
Василича, кажись, племянница. И молодая вдова. Мужик ее, городовой
воевода, погиб <черною смертью>, и теперь, по сиротству, принял ее Василий
Протасьич в дом и был ей <заместо отца>. От вызнанного голову закружило
мечтой и страхом. И встрепанный, еще ничего толком не решивший, но уже тем
обнадеженный, что предложил свои услуги и они не были отторгнуты враз
(<Впрочем, перед смертью все равны, - одернул себя Никита, - что потом
скажет?>), только одно знал, понимал он, что тут ни удали, ни ухваток тех,
что с посадскими девками, не можно допустить, не то враз отставят и
забудут, что и на свете-то был!
словно ему тут и должно было находиться, прихмуря чело, скороговоркой
поведал про службу. И лишь по растерянному, недоуменному взору Василь
Василича понял, что тому сейчас не до того вовсе, что смерть родителя
совсем повергла его в прах, и теперь он с трудом понимает, зачем зашел и
сюда-то. (Ишь, даже не удивил тому, что Никита здесь, при свойке евонной!)
И все же надо было уходить. Бросив через плечо: <Пойду кликну кого из
женок!> - Никита вышел.
обогнул по верхним сеням красные покои и по смотровой вышке, черною
лестницею, взошел в повалушу, опять попав в толпу боярынь и боярышень. На
него лишь взглядывали, узнавая своего, и сторонились, пропуская. В час
беды каждый мужик - защитник и на виду у всех, а женки, даже и великие,
умалились перед бедою, схожею с ратным разором.
над телом. Прислуга зажигала лампады. Во всем тереме белыми льняными
покровами завешивали дорогое узорочье, гася блеск серебра и тяжелое
мерцание золота, готовили палату и ложе смерти к прилюдному прощанию с
городом. И Никита, вновь решительно взявши на себя в сей день обязанности
старшого, вышел в летний сумрак, под звезды, проверять сторожу, распорядил
накормить сменных: на поварне пришлось растерянного повара тряхнуть за
шиворот, а ключнице поднести твердый кулак к носу - только тогда оба
восчувствовали и захлопотали по-годному.
сжевавший кусок материна пирога и уже досадуя, что набольшего над
дружиною, Гаврилы Нежатича, все нет и нет, вновь поднялся наверх, в терем,
туда, где под стройное пение в ладанном тумане и мерцании свечей
бесконечная вереница горожан прощалась с телом великого тысяцкого Москвы.
лишь, значительно насупивши очи, кивнул ей со стороны, напоминаясь, но не
навязывая себя. И сколь ни устал, проведя на ногах и в заботах почти
сутки, а вновь колыхнуло в нем смутою плоти: то, как держал ее, теплую,
трепещущую, в руках на крутой лестнице... Держал и даже поцеловать бы мог,



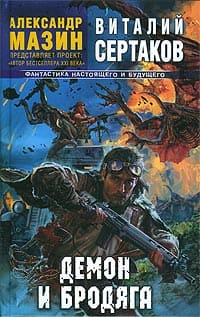
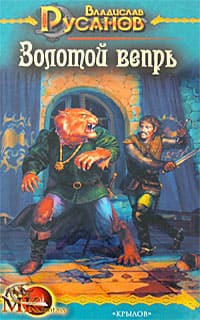

 Акунин Борис
Акунин Борис Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия Аникина Наталья
Аникина Наталья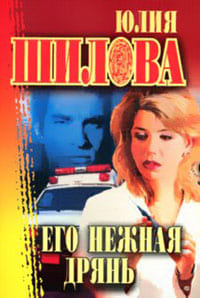 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия