была в ту пору такая же, как и здесь, в Константинополе, безлепица и
кутерьма. Те же нищие на улицах великого города и у дверей храма; римские
стражники и чванные фарисеи в одеждах из виссона, умащенные аравийскими
благовониями, с золотыми кольцами на руках... Шумный, богатый, крикливый
город в канун Пасхи! И тайная трапеза верных, среди коих один - Иуда.
Который предаст. И бденье в Гефсиманском саду, наполнившемся вдруг гулом и
криками и шумною толпою стражей. И такая же тьма, и холод, и треск
факелов, и костры...
ног, мгновением решил было, что это воскресла та самая ночь и что за
стенами каменного терема сейчас будут брать живым Учителя истины.
разом облепил одежду, хлестнул в лицо. Спустя минуту рядом с ним возник
встрепанный со сна Станята.
творилось неясное шевеление теней, мелькали огоньки факелов. Качались
черные очерки мачт за Одигитрийскими воротами, и тяжело и гулко било в
берег смятенное море.
кораблям. Приглушенно звучали возгласы, и согласный топот многих ног не
давал ошибиться в том, что проходили вооруженные воины.
святой книги и предают уже не Спасителя, а кого-то иного. Он оборотил
беспомощный взгляд к Станяте. Из-под низких лохматых туч на мгновение
вынырнула быстро бегущая луна, и Станькин лик в резких тенях, в черных
западинах щек под скулами, показался незнакомо-строгим. Поворотя к Алексию
мрачное лицо, он молвил вполголоса: <Кантакузина! - И ладонью черкнул по
горлу. - И наши дела...> - Не докончил, отмахнул рукой.
все хрустело и хрустело под ногами пробегающих воинов. Видимо, кто-то из
патриаршей челяди или, скорее, из клира впустил их в ворота крепости и в
здание арсенала Эптаскалона, где сейчас что-то гремело и лязгало и роились
торопливо перебегающие огни.
за предплечье. - Счас ступай в келью, владыко, и, тово, залежись, не
открывай никому! А я вызнаю, да и наших упредить надо!
почти выволок его с галереи, втолкнул в келью, приладил засов, переобулся
по-годному, схватил шапку, суконную свиту и исчез. Алексий долго
прислушивался, но ни крика, ни возни внизу не услыхал. Значит, Станька
проскользнул невредимо. Он плотно закрыл дверь кельи, потушил светильник и
во мраке, едва разбавленном лампадою, опустился на колени перед божницей.
представляя себе Учителя перед толпою стражей и рабов Каифы, то вспоминая
лицо Кантакузина в вечер последней встречи... Конечно, Кантакузин не
Христос! Но сколько предательств объяснено именно этим: что тот, и иной, и
третий - далеко не Христос! Да и само предательство Учителя не тем же ли,
в сущности, оправдывали, говоря, что-де он не истинный мессия!
тринадцать столетий. <Господи, стали ли люди хоть немного лучше с той
давней поры? Господи, укрепи меня в вере моей!>
русичей:
последних прятали под свитами широкие хлебные ножи.
на дворе тебя ждут, проводят к нашим, а мы тут постережем. Книги, да
иконы, да узорочье... Ежели чего, не дадимся вдруг!
явившуюся в уголке глаза слезу.
дыбах! Слышно, бьются у Золотых ворот альбо во Влахернах!
шагом повели в монастырь, <до кучи>, как сказал один из русичей. Добрались
без беды.
стенах, и теперь, встретя Алексия живого и невредимого, обрадовались
донельзя.
вельможам выяснять, что к чему, и еще не ворочался. Не было Агафона, и
Станька, как отбыл, так и пропал невестимо. Посылать кого за ними было
нелепо и некуда. Приходилось ждать.
едва не столкнувшись в дверях нос к носу, хотя были в разных местах, даже
в разных концах города.
весело:
- Ну, так! Ты, Станька, видел с улицы, дак, почитай, ничего не ведашь,
тебя опосле послушаем! Дело таково створилось: Иван Палеолог вошел в
город. Приняли ево! До рати с Кантакузином не дошло у их и не дойдет.
Нынче мирятся, слышь, Кантакузин своим приказал сдаться. Родичи все же,
тесть... Теперь неясно, то ли он будет при Палеологе, то ли нет, а только
все, почитай, от царя уже отшатнулись. Сам Дмитрий Кидонис - и тот! Да и
народишко... Ты видал, Станька, сказывай!
ликовали, и в возок Кантакузина, когда он утром с зятем выехал из ворот,
швыряли камни, крича:
ж еговые ратные?
стояла! Некак было и послать за нею!
один другого нелепее, которые доходили до монастыря, поведал, что
Кантакузин сам, добровольно, сложил с себя власть и ныне будет
постригаться в монахи.
Гаттилусий, сам от себя плававший на двух галерах в поисках приключений по
греческим морям. И, конечно, ежели бы не предательство и не общая нелюбовь
к Кантакузину, Иоанн Палеолог добиться ничего не сумел бы.
царской далматике, повелел опустить оружие и стоял недвижимо. Ринувшие
было на него воины отступили, и тогда он произнес громко и спокойно:
ратников и подойти к нему.
соправительство. Но когда горожане начали бросать камни в возок василевса,
Кантакузин решительно отвергся власти и порешил уйти в монастырь. Причем
Кантакузин тем же утром остановил могущее быть кровопролитие, приказав
гвардии у Золотых ворот, которая могла и хотела вновь захватить город,
сложить оружие, оскорбив тем своих верных латинян.
Иоасафа в Манганском монастыре стало известно всему городу, свидетели
пересказали последние горькие слова супруги императора василиссы Ирины
(она тоже постриглась под именем Евгении в монастыре Святой Марфы),
обращенные к мужу в тот скорбный последний день: <Если бы я некогда
обороняла Дидимотику, как вы обороняли Константинополь, вот мы уже
двенадцать лет спасали бы наши души!>
говорил речь с амвона Святой Софии, обращаясь к народу:
полчищ Омарбек и Урхана! Наступило время Божьего заступничества, ибо народ
изнемог и теряет веру! Много христиан сделались споспешниками турок.
Простонародье предпочитает сладкую жизнь магометан христианскому
подвижничеству. Мы стали посмешищем проклятых, вопрошающих: <Где Бог ваш?>
Пресвятая Богородица! Все мы теряем имения, деньги, тела наши и надежды.
Ни на что не уповаем, кроме помощи от твоей, Богородица, руки!
отшатнувшиеся от императора, сохранит и при новом государе место среди
синклитиков.
заикался больше никто.
другим богатые греческие острова и надавал массу долговых обещаний),
деятельно вступал в бразды правления. Молодому, добившемуся наконец власти
императору, избавленному от опеки Кантакузина, все казалось легко и
радостно, и он дарил, раздавал, жаловал, не понимая иногда толком, что
дарит и что раздает и осталось ли еще что-нибудь в империи нерозданное и
неподаренное? Меж тем выкупать из плена Григория Паламу и он отнюдь не
спешил, не желая, видимо, отяготительных для себя укоризн строгого
наставника и патриота империи, коим был знаменитый епископ.




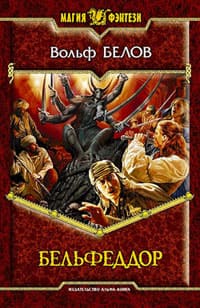

 Лукин Евгений
Лукин Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел Андреев Николай
Андреев Николай Свержин Владимир
Свержин Владимир