единою мыслью: ежели так повезет, переговорить с нею. Но люди были все
время вокруг, по всяк день <она> была в толпе, и уж какие там разговоры!
Едва добился, когда поехали кататься на Воробьевы горы, попасть на те
сани, где сидела она с другими женками. И скорее со злого отчаянья, чем с
озорства, вздумал обогнать всех, чуть-чуть не погубив и себя, и ее, и
прочих женок, ибо решился на то, на что но решался никто, ниже и сам
Василь Василич, тоже лихо правивший разукрашенною, в лентах и бубенцах,
ковровою, в росписи и серебре, тройкою. На самой круче, на самом страшном
спуске, гикнув, вырвался вперед Никита, и с раската, когда другие начали
придерживать лошадей, он поднял плеть и с присвистом огрел - жеребец,
всхрапнув, пошел наметом. Сзади ойкнули - и кончился, как оборвало,
девичий смех. Конь шел бешеной скачью, почти смыкая передние и задние
копыта, так что Никита подумал, что жеребец вот-вот сделает засечку, а
тогда... о <тогда> и думать не захотелось! Крупные комья вывернутого
подковами плотного снега били в сани, летели в лицо. Он на миг глянул
назад, где, сбившись в кучу, вцепившись в разводья узорных саней, с
расширенными от ужаса глазами мотались-летели за конем испуганные
боярышни, и - наддал! И уже чуял, что худо: сани с раската, почитай,
летели по воздуху, и хомут начинал налезать на уши коню. Теперь стоило
жеребцу допустить один (махонький!) сбой, и - край, и - конец: через
голову, вдрызг, в звень, в мельканье задранных кованых копыт, с
предсмертным женочьим непереносным визгом полетит все - и сани, и люди, и
он сам, и будет смято, растоптано катящими следом за ним санями... И уже
не он - конь спас: на самом раскате, зависнув и собравши всю силу четырех
ног, ринул в долгий прыжок, а чуть тронув дыбом, вихрем в лицо летящую
снежную землю, снова скакнул длинным воздушным наметом и, не давая
отлететь в сторону грянувшим о накатанный снег саням, снова прыгнул и
опять пошел головокружительной непредставимой скачью, смыкая копыта так,
что звякали друг о друга подковы передних и задних ног, и Никита с
замиранием сердца ждал и, к великой удаче своей, не дождал-таки гибельной
засечки коня, когда дорога пошла выравнивать и стало мочно разглядеть
конские ноги, и клочья белой пены, и потную спину жеребца и ощутить
собственный жар и пот, горячей волною прошибший под рубахой всего Никиту.
Он мельком подумал еще, что так вот, в санях, на добром коне, русич уйдет
и от татарина, меж тем как верхами от татарина ни за что не уйти, и
подивил тому, и тоже - как тенью прошло в разуме. Еще и облегчающего
счастья удачи не было, накатило потом, лишь билось, росло, ширило злое,
озорное, как в битве, отчаянное торжество; и оглянул опять и узрел, увидел
ее бездонные, черные от изумления и страха, непредставимые, завораживающие
глаза, и опять наддал, и, уже чуя храп и тяжкое дыханье коня, когда уже
завернули по нижней дороге, вдоль кустов, и, далеко назади оставя
хохочущий, звенящий бубенцами праздничный обоз, унырнули в оснеженную
красу медяных стволов соснового бора, начал понемногу натягивать вожжи,
умеряя бег коня. И такое было - словно летел в пустоте, а тут только
опустился наконец на землю. И не слушал уже женской с провизгом воркотни и
восхищенной ругани за спиною, и сам обморочно отдыхал, чуя, как
возвращается в пальцы, руки, в предплечья ловкая сила, скованная миги
назад смертным ужасом полета с раскатанной гладкой высоты. И сейчас бы
вновь оглянуть и крикнуть в голос: <Люблю!> А уже нельзя, не одна в санях,
а еще трое - лишних, ненужных ему совсем теперь женок, и все-таки оглянул
жадно, разбойно вперясь в расширенные озера очей. И она поняла, почуяла,
словно от удара в грудь шатнулась к задку саней, к узорному ковру, и,
поймав недоуменную беспомощность взгляда, Никита, ликуя, еще раз,
последний, ожег коня, и вновь рванул конь, и тут уже сам, опомнясь - не
запалить бы хозяйского жеребца! - начал осаживать, переводя скок в рысь и
чуя, как обвисает, отдыхая, все тело и как сзади, за спиною, начинают его
хвалить, и вновь раздается смех, и уже кричат, величаясь, отставшим,
хвастая и любуя жутким пробегом саней!
почуяв, о чем будет разговор, взошел в горницу нарочито независимо (а в
душе не ведая, уйдет ли живым, ибо не знал и сам, что ответит боярину,
ежели тот прямо задаст ему вопрос о Наталье Никитишне).
хмурая ярость.
чуть-чуть, незаметно совсем, покачивая плечами, и прямо смотрел в
нахмуренный лик боярина. (<Ох, и скажу же я ему все!> - подумалось вдруг,
хотя что <все> мог бы он сказать Василь Василичу, Никита совсем не ведал.)
гнев, и взорвись он сейчас - правда была бы на его стороне, боярской! Не
одною своею головой и не одним конем рисковал Никита на днешнем катанье с
гор!
Василь Василич и, отводя глаза, добавил: - Сором! - И, вновь помолчав,
присовокупил твердо: - Не быть тому!
холуйскую игру непонимания... Да и в нем была не холопья кровь! Побледнел.
Усмехнул. Понял, почему сдерживает себя Василь Василич: за эти смутные
месяцы противустоянья и долгих пересылок рязанских стал он излиха нужен
Василь Василичу и некем или трудно стало его заменить (хотя и мочно! В
великом хозяйстве тысяцкого многие сотни людей, и всяк захочет услужить
господину, коли придет в том большая нужа!). Но, верно, и еще что-то было,
почему не хотел Вельяминов попросту сослать Никиту с глаз долой, куда-нито
за Можай, и вся недолга. Верно, и сам чуял, что связала его с послужильцем
иная незримая нить, оборвать которую - лишить себя многого, чего и не
учтешь зараз!
тут нужны были еще слова!
ведал в той мере, в какой ведал о том сам боярин, чуявший, что счастье
начинает отворачивать от него и что в мышиной возне слухов, пересудов,
говорок тайных и явных, измен и полуизмен одолевает его Алексей Петрович
Хвост.
Сказал устало: <Ступай!> Только и было всей говорки меж ними...
днем, когда ему довелось по делам Вельяминова побывать в трех разных
местах: у купцов на торгу, у мастеров-седельников и на литейном дворе - и
всюду услышать, что-де Хвост в звании тысяцкого будет подельнее Василь
Василича.
снабжавших лунским сукном и прочими иноземными тканями всю боярскую
господу и сам двор княжеский, стояла недалеко от вымола, на южном склоне
москворецкого берега. Тут, в затишке, припекало, снег сильно сел, где и
вовсе сошел, и солнце, как бывает ранней весною, не шутя грело шею и
спину.
смерть>, сидел в долгой шубе и валенках, подставив солнцу сивое, совсем
древнее лицо, и грелся, полузакрыв глаза. Седатый сын, внуки, приказчики
суетились, бегали, предлагали товар нечастым в эту пору дня покупщикам, и
лишь один этот забытый смертью старец не шевелился на своем неизменном
сосновом чураке. Но в жидких глазках купца, когда он оглядел Никиту,
проблеснул ум, и цепкая купецкая память, как оказалось, сработала, не
подвела Ноздреватого.
и присовокупил со вздохом: - Вишь, я и Протасьича пережил, да! - Глаза его
заголубели, устремясь к дальнему, легкому и одетому сияющею синью окоему и
к прошлым годам, худо ли, хорошо протекшим для него на этой земле.
поди! - прошамкал старец, кивая головою на двери.
драки, когда новопришельцу родичи стыдятся казать свои нестроения, но все
еще взъерошенно огрызаются друг на друга. Его не очень любезно спросили:
- Держат товар, понимать! Скажи...
торговому делу. - Боярин, што ль! Такой же ратной, чево знат!
себя.
по старому уряженью с покойным тысяцким, доставят сукно на Протасьев двор,
Никита вышел вновь к весне и солнцу.
красоты. В полутьме лавки, причудливо разложенные и развешанные,
стеснились Бухара и Тавриз, Царьград и Венеция, далекий Китай и сказочная
Индия, выплеснув в нутро этой приземистой бревенчатой хоромины жар и
истому своих удивительных земель. Рогатые звери и двуглавые птицы, слоны и
львы, извивающиеся, раскрыв долгие пасти, змии среди трав и цветов,
завораживающих своею многосложною перевитью, сукна и бархаты, аксамит и
зендянь, гладкие атласы и переливчатые шелка, узорная тафта и разноличные
камки - чего только не было здесь! Торговля Ноздреватого явно шла в гору,
и пока в Орде сидел Джанибек, установивший порядок на караванных дорогах и
вымолах, увеличилась, пожалуй, вдесятеро. Странно было даже и помыслить,
что ветхий старец в долгой шубе, греющийся на солнце за дверьми лабаза, и
есть хозяин всего этого растущего, как на дрожжах, великолепия.


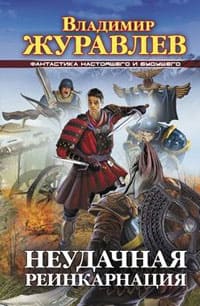


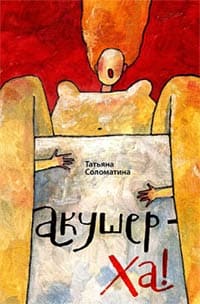
 Пехов Алексей
Пехов Алексей Корнев Павел
Корнев Павел Бажанов Олег
Бажанов Олег Круз Андрей
Круз Андрей Витковский Евгений
Витковский Евгений Акунин Борис
Акунин Борис