налила новую чару, поднесла гостю-спасителю и легонько коснулась губами к
склоненному челу Никиты. В этот-то миг стал для Никиты боярин Хвост личным
ворогом, коего надобно было передолить и даже вовсе уничтожить, совсем.
каким-то, чужим, сдавленным голосом вымолвил он, отступая. Слышно было,
как по лестнице шел Василь Василич, и Никите следовало уже, и тотчас,
оставить покой.
того часа от княжеского крыльца больше не убирали, а во втором дворе
Симеоновом начали расчищать место и возить лес на новый терем.
произошедшую меж Вельяминовыми накануне этого дня.
Василь Василича отступить от княгини Марии и спасать судьбу рода и дело
Москвы независимо от нее, потому что грамота, посланная Марией Василию
Кашинскому, уже стала известна на Москве и смутила многих.
помочь! И своими руками возродим Тверь! Неча было тогда ни Юрию воевать с
има, ни Ивану Данилычу, ни князю Семену... Сидели бы в своей мурье да
тараканов кормили! - кричал Федор, а Василь Василич только пыхтел, темнея
ликом и не ведая, что сказать. Тимофей, тот кидался на Федора, кричал о
чести, о совести, о том, что предательством они опоганят себя и детей на
все грядущие годы. И Юрий Грунка, самый младший, был душою с Тимофеем. Но
им обоим перевалило лишь за двадцать лет, а Федор с Василием каждый были
почти вдвое старше и оба - великокняжескими боярами. Так что голоса
молодых Вельяминовых мало что значили пока и все зависело от решения
Василь Василича... И как знать! Не явись Хвост столь нагло в терем Марии,
как бы еще и поворотило дело-то! Сторожу от княжого терема убрал Василь
Василич недаром. Сам знал - как и все прочие бояре московские, знал, - что
городами княжескими Марии, бездетной вдове, да при ином живом князе,
невместно владеть, но сожидал Ивана из Орды, сожидал пристойного,
постепенного, необидного ни для кого решения, сожидал, дабы Мария сама
предложила воротить те города Ивану... А тут Хвост, оскорбивший дозела
память покойного Семена, оскорбивший и его, Вельяминова. И - в память эту,
за-ради чести своей, не похотел боярин измены вдове Семеновой и, упершись
упрямо, едва не потерял все на свете: и власть, и волости, и честь
боярскую, и мало не саму жизнь.
то хоть ты и прав тысячекратно, хоть нет, а или присоединяйся, или
выжидай, коли мочно, событий, или иди на смерть, на гибель, на попрание,
ибо растопчут, сомнут и разве потом, много после, поймут, что был ты один
героем, а все они - стадом, помчавшим испуганно или взъяренно совсем не в
ту сторону. Ежели поймут. Ежели запомнят твой одинокий подвиг. И ежели ты
прав, а не ошибаешься в свой черед! А был ли прав Василий Васильевич
Вельяминов, упрямо защищавший владельческое право своей госпожи? Трудно
это решить и о сю пору! Не ведаем точно, как и что створилось тогда на
Москве, не ведаем, кто и о чем мыслил в московских спорах. Ведаем только,
что надобна была стране, земле, языку русскому единая сильная власть и
стараниями всех бояр московских, а больше всего владыки Алексия, осталась
она за Москвой. И то, что города у Марии были отобраны (или возвращены ею
добровольно), известно стало теперь только по завещанию Ивана Ивановича,
где они исчислены уже среди его княжеских владений. А о том, что спас
впоследствии Вельяминова никому не ведомый ратник Никита, Мишуков сын, не
уведал и вовсе никто.
серо-сиреневый зимний полог стаял, стек с небес, и отверзлась взору
высокая нежная голубизна, от которой и тени враз засинели на снегу,
далеким-далеко раздвинулся окоем, а солнце, еще нежаркое, еще не отошедшее
от зимних стуж, уже греет в затишках руки, разбрасывая свою золотую
сквозистую парчовую кисею по сугробам и купам дерев, и воздух, чуть-чуть
дрожащий, хрустальный, упоительно свеж, и даже в ледяном ветре последних
вьюг, от которого разом немеют щеки, незримо сквозит сладкая горечь
готовых распуститься ветвей.
полозьях, обитый по углам узорчатым серебром, со слюдяными оконцами в
ладонь, с малою, только пролезть, дверцею, на которой еле виден написанный
красным московский ездец на белом коне (будущий Георгий), ныряет и
уваливает с угора на угор, уносимый шестеркою запряженных попарно, гусем,
приземистых широкогрудых неутомимых татарских коней. Возница, щурясь от
сверкания снегов, лихо кричит, раскручивая в воздухе над конскими спинами
длинный ременный, хитрого плетения кнут:
бубенцов, рвутся в яростном ветре, сильно и часто работая ногами, так что
не различить мелькания кованых копыт. Скачет, по-татарски пригибаясь в
седлах, дружина впереди и сзади княжеского возка. Фыркают кони, летит
облаками мелкое крошево снега из-под копыт, весеннего тяжелого ледяного
снега, что радугою брызг покрыл шапки, вотолы, опашни и ферязи конных
детей боярских, кметей и челяди нового великого князя владимирского.
дальше - сани, груженые розвальни, купеческие высокие возы, но даже там, в
хвосте растянувшегося на три версты обоза, возничие, истомившиеся в Орде
до беды, изо всех сил полосуют кнутами конские спины, торопят: скорей,
скорей! Домой, на родину, в Русь!
город, Владимир.
боязливым восхищением ухватывается за твердые ремни, которыми привязаны
ларцы, укладки, кошели и торбы с казной, платьем и грамотами, глазасто и
жадно глядит по сторонам сквозь желтые слюдяные створи, ухватывая разом и
солнце, и морозный дух весенних снегов, сочащийся внутрь возка, и
пронзительный птичий грай, и опасливо-радостно взглядывает на строгий лик
Феофана, что замер, словно бы и не он поминутно взлетает ввысь, теряя вес
тела, словно бы и не его мотает на пестрых ордынских подушках княжеского
возка. Холопы уселись на самое дно. Толмач по-татарски согнул ноги
кренделем, что-то лопочет по-своему, лукаво взглядывая на князя. А Иван
радует совсем по-детски. Все так хорошо! И весна, и снег, и кони, и
дорога, и счастливое завершение ордынской истомы, и вот он уже (скоро!)
великий князь, и все свары и ссоры покончены, и заждавшаяся Шура скоро
примет его в свои объятия, и ему станет хорошо-хорошо, и можно будет все
забыть, кроме нее, да своего терема, да детей... Бояре толкуют, что теперь
ему надобно перебраться в Семеновы хоромы, а так не хочется! Андрей бы...
Нет брата Андрея... Василь Протасьич... И старого тысяцкого нет! Ему на
миг становится нехорошо, но он отбрасывает от себя, отодвигает все
тяжелое, скучное, унылое, и вновь взглядывает в закаменевший лик Феофана,
и вновь недоумевает: почему же они, Феофан с Дмитрием Зерном, больше, чем
он сам, добивавшиеся великого княжения, теперь столь строги и неприветны?
Все ведь так славно окончено! Он не выдерживает, зарозовев разгарчивым
девичьим ликом, прошает Феофана, почто тот таково суров. И старик, из
почтения к князю улыбнувшись беглою нерадошною улыбкою, отвечает:
тово, поболе долит...
коих ему уже не пораз доносили в Орде, и, похотев придать себе твердости и
величия, хмурит брови. Но не получается! Трудные мысли никак не идут в
голову, рот сам растягивается до ушей. Да и коли свершилось ко благу в
Орде, неуж дома-то станет хуже? В родном терему и стены помога! И потом:
все были такие добрые! И суздальский князь после ханского решения прислал
к нему тысяцкого, поздравил с великим столом. Только новогородцы не
смирились... Ну, да его бояре что-нибудь да надумают! И скорее бы воротил
из Царьграда Алексий! Последняя мысль набежала, как легкое облачко. На миг
расхотелось улыбаться. Приедет Алексий! Должен приехать! И все будет в
поряде! И вновь молодой московский князь тает в солнечной детской
улыбке... Красивый и совсем-совсем беззащитный мальчик-муж, коего свои
бояре везут сейчас во Владимир сажать на престол великого князя
владимирского вослед отцу и брату, двум могучим покойникам, создававшим и
почти создавшим наконец трудное величие Москвы, доставшееся теперь
нежданно-негаданно в его полудетские руки.
серебряным звоном славящие княжеский поезд владимирские колокола.
князь, радуют близкому завершению пути холопы и челядь, радует возница,
щелкая в воздухе долгим бичом, и только один Феофан, закаменевши ликом,
перебирает сейчас в уме тревожные вести из Москвы, где восстала промежду
бояр почти что взаимная рать, прикидывая (и уже сомневаясь в том): сумеет
ли Иван Иваныч без владыки Алексия сдержать сии гибельные которы, грозящие
наниче обратить сокровище власти, добытое совокупными трудами всей
московской земли? Добыли! Добились! Вручили! А кому? Эх, княже Симеоне,
рано ты опочил, осиротил землю свою!
холодный мартовский ветер!
влияние это тем сильнее, чем меньше соучастие самого человека в устроении
этих честей.
Владимире закружилась голова. Он не то чтобы поверил в свою



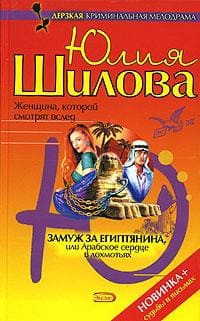


 Корнев Павел
Корнев Павел Свержин Владимир
Свержин Владимир Никитин Юрий
Никитин Юрий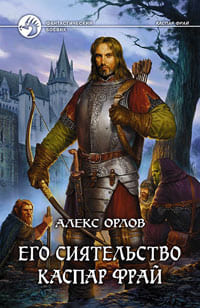 Орлов Алекс
Орлов Алекс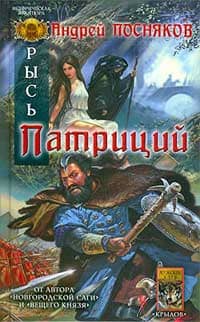 Посняков Андрей
Посняков Андрей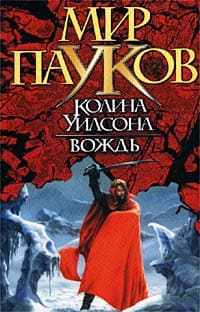 Прозоров Александр
Прозоров Александр