избяной уют, и эта кубышка-жена, что прядет неутомимо и будет соваться и
делать до последнего, и утром того дня, как ей родить, еще сумеет истопить
печь и сварить щи, а там созовет соседку-повитуху и, едва опроставшись,
час какой отлежав на лавке, снова примется хлопотать, и прясть, и варить,
и доить коров, и обихаживать детей и мужа. А он, отдохнувший после страды
- а только и слава, что отдохнет! - к завтрему достанет загнутые по весне
полозья и начерно вырубленные копылы и станет мастерить новые дровни,
чтобы успеть до снегов, а там чинить сбрую, а там мочить и мять кожи, а
там... Да мало ли дела у мужика на кажен день, кажен час, так что, хошь и
слушая сказку али бывальщину, не перестает он то вырезывать какую
посудину, то сучить дратву, то подшивать валенок или заплетать лапоть -
лишь бы работа шумом своим не мешала рассказу.
вдругорядь. (Матка, поди, и сама не поедет к Услюму!)
грит, второго родишь, дак я и приеду бабить да нянчить!
не ведаем, будет ле!
застланной кошмами, под овчинной курчавою оболочиной, в легком, без дымной
горечи, воздухе, где чуть тянет рассолом от кадушек и бочек с
заготовленною на зиму овощью и грибами, еще не спущенными в подклет, легко
было и лежать, переговаривая вполголоса, и засыпалось легко.
на зимние месяцы и как надо забивать ее соломой, чтобы совсем не дуло в
щели.
изба вся будет выглядеть, как омет соломы, а из него сквозь крышу и по
застрехам станет сочиться дым. И еще одно думает, уже с тревогою, слушая
любовный рассказ брата о своем сельском устроении: вот, оказывается, о чем
мечтал все детство и юность молчаливый старательный парнишка, а совсем не
о лихих сшибках да подвигах и - не промчать в опор на бешеном скакуне с
поднятой саблею, а запрячь Гнедка в розвальни, вынести расписную дугу, да
любовно одеть коню на шею кожаное ожерелье с колокольцами, да усадить жену
с ребятишками, укутавши их полостью, да самому в тулупе, в кушаке красном
важно тронуть со своего двора и потом гнать ровною хорошею рысью, любуясь
доброй ездою, но и отнюдь не загоняя лошади, и чувствовать себя хозяином,
работником, гордиться и конем, выращенным во своем стаде, и бочкою своего
меда, что везет на продажу в город, где можно будет навестить родича,
князева кметя, выпить с ним чару-другую доброго пива, переночевать да и
опять домой, уже налегке, но с городскими покупками, из которых главные,
кроме какого-нибудь браслета или нового плата жене да расписного
пряничного коня сыну, будут опять же для дома, для хозяйства: новые
обруди, два круга подков, да удила, да наральники для сохи, да кованые
гвозди, да еще какой рабочий снаряд, который трудно, а то и неможно
содеять самому или добыть у деревенского кузнеца. И в том будут Услюмовы
гордость и утеха. До новой страды, до нового напряжения всех сил и свыше
силы, только чтобы поставить сена, сжать и обмолотить хлеб, убрать
огороды, вспахать и посеять озимое. А там опять ставить загату вокруг дома
от зимних вьюг, возить дрова, лес и сено с дальних покосов, да слушать гул
леса и завывание вьюги в осиновом дымнике над дверью, да сказывать малому
про домового да про овинника и разную другую лепящуюся к человеку добрую
нечисть. Тихо вокруг! Тихо и темно так, как бывает темно позднею осенью,
пока еще иней не выбелил черной земли и не высветлил убранные тусклые
поля.
несудимой грамоты отцовой, княжеский смерд, ну, а попадешь к боярину? Там
уже воля не своя! А у тебя самого - чья воля? - одергивает себя, возразив,
Никита. Кому ты, свободный кметь, хлеб нонеча убирал за так, за-ради
службы княжой, ратной справы да корма в молодечной? И в чем она, воля? И
где она? И есть ли она? И нужна ли она вообще? При добром хозяине, что
дуром не лезет не в свое дело, словно бы даже и не нужна! А право уйти,
отъехать, оно есть у всякого, кто не холоп, кто не подписал обельной
грамоты на себя...
по-крестьянски обстоятельно и деловито:
заместо матери. Баба, коли балована смолоду, - хуже нет! Век будет всем
недовольна, на все будет нос воротить: и то не так, и иное не едак! Я не
на красу и смотрел. А работать - добра! Ныне с брюхом, дак не больно-то и
побегашь, ну и сам берегу: скинет - себе хуже! А так она проворая у меня!
В руках все у ей горит! - И по гордости в голосе Услюма видно было, что с
бабою своей живут они душа в душу.
Где-то в углу, мало не испугав, громко обрушилась из темноты кошка, и по
короткому острому визгу почуялось, что поймала добычу свою.
переловила!
лежать рядом с братом и молчать.
шуршание обложного осеннего дождя, вслед за коим подует холодный ветер,
обсушит дороги, которые тотчас затянет по лужам тонким ледком, и пойдет
первый, сперва еще робкий, пуховый снег, разом высветлив землю в лесу и в
полях, и запахнет отвычной морозною свежестью воздух, и отвердеет земля, а
где-то там, вдали, уже завиднеются Рождество, Святки, голубые снега,
крещенские морозы, широкая Масленица...
просто кони обеспокоились во дворе? Но хлопнула дверь, сперва избяная, а
потом и дверь сельника, пахнуло холодом из сеней.
требовательно вопросил Матвей Дыхно, входя и - в темноте по слыху было
понятно - отряхивая у порога мокрый вотол. Услюм уже бил кресалом,
налаживая сальник.
запах коня и сыри.
взял!
проснувшийся Никита.
и будем хлеб убирать, доколе всю волость Московскую литва не охапит!
сапоги и теперь натягивал зипун.
простили, теперь литвину кус дадим... Дак ить хошь и все отдай - не
облопается, падина, не треснет! - вновь взорвался Матвей.
приказал Никита, не сомневаясь, что Услюм, только что покинувший сельник,
уже распорядил и ночлегом, и ужином. - Давай, заводи коня! И вотол
просушишь до утра-то!
тишины, ни покою. И надобно было из утра скакать на Москву и сожидать
ратной поры, и посвиста стрел, и сверканья мечей, и конных бешеных сшибок
ради того, чтобы только охранить эту землю, этот покой и этот труд.
там, то здесь вспыхивали набатные колокольные звоны. До хрипоты кричали,
спорили, ссорились на площадях и в торгу. Откуда-то из подмосковных слобод
сами собой являлись наспех оборуженные, никем не званные дружины ратных.
Все ждали Ольгерда. И Хвост, потерявшийся, - ибо, по самому здравому
разумению, что же он мог сделать теперь, до думы боярской, до князева
решенья, до соборного приговора Москвы? - стал вдруг и сразу ненавистен
едва ли не всем и каждому. Вельяминовых останавливали на улицах, Василию
Василичу кричали: <Веди, не отступим!>
своем тереме и не знал, что ему вершить. Дума наконец собралась, но опять
не сотворилось в ней нужного единства, и, поспорив, покричав до хрипоты,
вдосталь овиноватив друг друга, великие бояре московские не сумели прийти
к единому твердому решению и, как всегда в таких случаях, постановили
укреплять Можай и Волок Ламский, слать ко князю Василию Кашинскому о
совокупной брани противу Ольгерда, слать к смоленскому князю Ивану
Александровичу, дабы выступил, по прежнему докончанию, противу Литвы, но
вообще - погодить и дожидать владыки Алексия из Царьграда.
не спешил, и Ольгерд, занявши Ржеву и оставя там гарнизон, благополучно
ушел в Литву.
тысяцкого решительных действий. Толпы приходили в Кремник, Алексея






 Орлов Алекс
Орлов Алекс Майер Стефани
Майер Стефани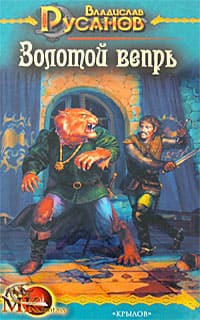 Русанов Владислав
Русанов Владислав Шилова Юлия
Шилова Юлия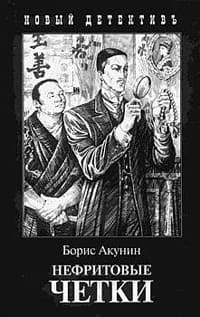 Акунин Борис
Акунин Борис Панов Вадим
Панов Вадим