деду. То все понуждает к труду, к деянию, к тому, чтобы быть не хуже иных
на миру. И вс° тут - и посиделки, и свадьбы, и похороны. На миру и смерть
красна!
крестьян бывают и злоба, и колдовство, и суеверия, с которыми борется
церковь, ненависть и право силы, разъедающие деревенский мир. И тут все
усилия церкви, духа, разума, наконец, тут-то и надобен и необходим первее
всего монашеский подвиг!
мало заботило троицких старцев. Но с каждым годом являлись новые росчисти,
и уже не только с тем, дабы отпеть покойника или перевенчать молодых,
являться стали в монастырь мужики. Начали приходить искать защиты от
неправедного соседа, от насилия владельца-боярина. И Сергий, коему
крестьянский труд был так привычен уже, что он порою сам забывал о
боярском происхождении своем, узрел, почуял вновь всю трудноту, сугубую
трудноту, когда надобно убедить в чем-то простого крестьянина. Боярина,
купца, посадского - с теми со всеми было много легче. Мужики слушали,
вздыхали, низили глаза, винились и - поступали опять по-прежнему.
ему, именно ему, потому что работал сам, как и они, и не величался ничем,
было с мужиками особенно тяжко.
врезавшийся ему в память, не мог Сергий, положа руку на сердце, зачислить
в удачи свои, как о том твердит вся братия, нет, не мог! И было это его
поражением, не победою.
разгладит холеную бороду свою, выстоит истово всю службу, поклоны кладет в
пояс и, разогнувшись, опять глядит, слегка улыбаясь, любовно озирает
Сергия, словно дорогую покупку свою: вот, мол, наш-то! Каков! И на лапти
Сергиевы глянет и тоже словно ободрит с прищуром: мол, знай наших! Словно
бы и в лапти нарочито обулся Сергий для виду казового, для пущей,
нарочитой простоты.
полуторагодовалого борова, вскормленного тем для себя с трудами великими.
(А что значило для ребенка выкормить свинью, ведал Сергий слишком хорошо!)
Мальчонка, Некрас, прибежал в обитель, пал в ноги Сергию.
литургии, заставил и еще пождать. Завел в келью. Строго молвил, отметая
сразу хитрые отмолвки и отвертки крестьянина:
сирым и вдовицам?! Ведаешь ли, что отмщение в руце его и страшен Господень
гнев?! Ведаешь, - повысил голос Сергий, и кривая усмешечка начала сползать
с холеного лица крестьянина, - что и Божьему долготерпению есть предел?
Бог дал тебе сторицею, ты богатее других! Ужли и того не довольно? Ужли
тебе, богатому и сытому, будет чем оправдати себя на Страшном суде?
Убогого грабишь! Вопль его - ко Господу! Тебе ли указать таковых сильных,
неправду деющих, коих домы опустели, и сами они нищими бродят между двор,
а в оном веце их сожидает мучение бесконечное? Того хощеши?!
плавала ложь, хоть и валялся в ногах и уверял, что заплатит сироте за
вепря того. И была во всем - в слезах, уверениях, даже в струях пота на
челе - та же крестьянская мужицкая хитрость: костьми лечь, а не дать,
откупиться поклонами, клятьбою, божбой...
дальний угол клети, завалил рогожами. Парное мясо задохнулось, видимо, от
тепла, и сонные зимние мухи ожили, заползли внутрь. Когда Шибайло глянул
(так и не давши цену сироте!), мясо кипело червями, хоть и была пора
зимняя. И тут по крестьянской, по той же осторожной сметке своей, где и
баенник-овинник, и шишига-пустельга, и сосед-колдун, и всего иного
намешано, чего и не измыслить враз, догадал, поверил, что и мясо то
погибло не от чего иного, а от его, Сергиева, проклятия. И еще помыслил
разом, что и весь двор его падет по проклятью старца (запомнил-таки слова
Сергиева поучения!), и побежал к сироте с деньгами, долго кланял, винился.
Краденого вепря выкинул в овраг, но и псы, бают, не ели уже той тухлятины.
И позже, потом, срама того ради не смел являться более к Сергию на очи, в
монастырь...
понял, утвердил Сергий для себя раз и навсегда, что тут надобны не
уговоры, а гнев и страх Господень, узда закона, ибо еще далеко оным до
благодати и благодатного восприятия горней любви! И надобны строгость и
неукоснение в трудах молитвенных. Никогда и ни с кем не позволял он
сократить час службы или иное совершить послабление в делах молитвенных.
<Ограда закона> была надобна. Кольми легче было бы ему в ризах украшенных
с высоты амвона глаголати с ними! Нет, Господи! Прав ты, Учитель, и
праведны слова твои пред искушавшим тебя: <Отойди от меня, сатана!>
задача обители всей, каждого из братий и всех вкупе, - нести свет, пасти,
и спасать, и укреплять духовное начало, вести борьбу с плотию и с гласами
ее: болью, страхом, гневом, властолюбием, сребролюбием, леностию, похотью
и иными многими каждый день, каждый час!
воевод. И борьба за нее безмерно сложна. Биться насмерть с врагом способны
и звери, но токмо человек способен бороться с самим собой!
смотреть, ибо иначе - ни к чему и сами обители!), то тогда у мнихов, в
киновии, все должно быть наоборот крестьянскому обиходу: никакой мужицкой
собины, никакого имущества, ничего мирского. Ибо монастырь - меньше всего
тихая пристань для устарелых и усталых от жизни, а больше всего - сама
жизнь, жизнь высокая, и только высокая! Жизнь борьбы с тварным, животным,
низменным ради величия человека, осиянного светом, явленным на горе Фавор!
выйти совокупная рать русичей, поверивших наконец, что они - одно?
Дионисий, его знакомец нижегородский, думал и торопил тот героический миг
по нетерпению своему. Сергий видел и знал - не скоро! И не о том надлежит
пещись ему, а о том, чтобы, пусть крохотный, но вырастить здоровый росток,
росток грядущего. И потому так тревожно было видеть ему то, что происходит
с братом Стефаном и с иными многими, возжелавшими греться в лучах славы
нового игумена, но отнюдь не ревнующих разделить с ним полную меру
сурового монашеского труда.
гордыни. И Сергий видел это и не мог поделать с братом ничего. И ждал. И
вот теперь Стефан не сказал ему, каковы дела у владыки Алексия в Киеве.
высунули свои сморщенные головы сморчки.
заново. Ставили сень над источником, ставили житницу, больницу, перерубали
ветхие кельи.
Общими стали по устроении книжницы и книги, чьи ни буди. С книги и
началось.
еклисиарха самого, когда при том книга та досталась тебе по наследству от
родителей или принесена тобою в обитель из Москвы.
священнического облачения, был в алтаре, а те, по-видимому, думали, что он
уже покинул церковь.
грубом, твердом, прозвучал давно сдерживаемый и ныне прорвавшийся гнев):
звучанию высокого красивого голоса, ответ канонарха.
к высокому тесовому потолку, громом отразился в алтаре:
гору сию? Рубил храм? Известил владыку Алексия? Князя? Бояр?! У вашего
Сергия един был тут ближник - медведь! Да и тот пропал невестимо! Ну и
сидели бы... Да что! Никто бы из вас без меня и не явил себя тут! И
игуменом был я! И поставил брата я! И ныне, когда... неведомо...
неможно и не должно ему, Сергию... И выйти было уже нельзя. Он стоял
недвижимо и об одном молил: да не зашел бы Стефан в алтарь!
Канонарх, посовавшись по углам, покинул храм тоже.
вышел из церкви боковыми дверьми, медленно соступил по ступеням на теплую,
уже прогретую солнцем упругую под ногою землю. Как был, в ризе и с
омофорием на плечах, еще ни о чем не думая даже (в душе и в уме был только
вихрь, проносящийся сквозь гулкую тишину), пошел к воротам обители. Шаги
его, неверные поначалу, становились все тверже и тверже, и - тут не
скажешь инако, ибо, и верно, сами ноги, отдельно от головы, понесли его
безотчетно знакомым путем куда-то к лесу и в лес, и только уже топча ногою
прошлогодний черничник и отводя руками от лица ветви елей, понял он, и то
какою-то самою незначительною частью сознания, куда идет. Ноги вынесли его
к дороге на Кинелу. А в голове все творилась гулкая, громоподобная тишина.
Текла, струилась, разламывая нечто и тотчас воздвигая вновь и опять
перемешивая все в призрачные, голубо-серые груды.
немного успокоила Сергия, он начал думать, во-первых и сразу поспешив
оправдать Стефана и овиноватить себя. Да, в чем-то, пусть и в самом малом,
неважном, брат был прав. Он - старший, и у него просил некогда Сергий


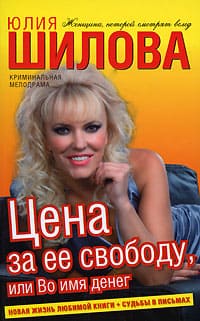



 Никитин Юрий
Никитин Юрий Василенко Иван
Василенко Иван Посняков Андрей
Посняков Андрей Круз Андрей
Круз Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис