бородах.
учился Васька, как все мальчишки, пяти-шести лет грамоте и церковному
пению, и так же играл на улице, и дирался со сверстниками, колотил детей
соседских - буен рос Васька у государыни матери...
боях на мосту волховском. Великом. И не понять было, над кем смеется
певец. То ли над купеческим братством вощинным - кто так и понял, - то ли
над ними, купцами заморскими?
любовались удальцом.
удальцов.
обижались, и опять слушали. В дальнем конце было задрались,
раззадорившегося вконец Жировита выводили из-за стола. Хорошо, князь в
братчинной сваре не имеет части, а то бы и гривны продажи ему не миновать.
татю и не платил даже! Не то что ты! Шуткую, пей, чего пригорюнилси?
Ердань-реке. Опять свое, новгородское! Отрочество, удалые проказы с
девками на Волхово... Волен Васька и разгулен без удержу!
камень.
суждена этой были, что будут передавать ее мужики один другому, отец -
сыну, дед - внуку, что через сотни лет доброй славой отзовется она по всей
великой Руси...
Стал вспоминать хождение Добрыни Ядрейковича в Иерусалим, перечислял
святые места иерусалимские, силясь доказать что-то, но уже и его плохо
слушали, и сам он, захмелев, путался и то и дело терял след своим мыслям.
ночью, обдуло, верно. Вертелся, кряхтел, пробовал заплакать. Домаша без
конца качала его, шепотом повторяя слова байки:
Приоткрывая глаза, сонно глядел на Домашу, бормотал:
бешенстве рвал и метал, узнав, что решили на жеребьях. Олекса низил глаза,
мял шапку. Дожидаясь, когда Ратибор, задохнувшись, смолкал на миг,
вставлял негромко:
нечисто дело. Тоже не дураки и у нас!..
того оно все и переломилося... Вышатичу Марку сам преже прикажи, боярин...
глазами в лицо Олексы. - Завтра же и объявлю! - прорычал он.
Напереди еще не то у нас в братстве: Фома Захарьич ладитце на покой!
Другого кого выбирать будут, тута я тебе боле пригожусь!
голову по мокрому от пота изголовью. Сморенный свинцовой усталостью дня,
он захрапывал, но снова возникали перед ним наглые глаза Ратиборовы, и
Олекса, ярея, просыпался вновь...
Глуздыня, и без конца укачивала малыша.
посоветовала омыть ребенка с приговором бегущей водой и пошептать. Заснул
бы только Олекса!
видеть. Замерла, нечаянно скрипнув дверью. Ежась, озираясь пугливо,
босиком, в рубашке одной - так надо, - сбежала к Волхову, седому от
утреннего тумана, по остывшим за ночь мостовинкам, по сизой, щекотной
траве, густо унизанной жемчужной росой, по влажному песку, мимо бань и
черных лодок. Зачерпнула бадейкой парной студеной влаги:
вода-девица, все морские, волховские, ильмерьские... Воды почерпнуть не с
хитрости, не с завидости, рабу божию Глуздыньке моему на леготу, на
здравие, на крепкий сон... - шептала, вздрагивая от холода, заползающего
за рубаху, словно водяник ласкал ее влажными лапами своими, - вот выстанет
из воды! Торопливо водила бадьей по солнцу: раз, другой, третий, - следя,
как текучие струи смывают расходящиеся круги... И загляделась - сжалось
сердце, будто снова девушкой о суженом гадала... А по верху тумана плыли
розовые светы, и тускло и мягко светили дивные Святой Софии купола.
и с засиявшими глазами, темным румянцем на щеках, взлетела на гору.
Запыхавшись, пробежала межулком, вдоль тына, крадучись, - не увидели бы
Нежатичи, боярская чадь, - да спят о эту пору все, охальники! Вот и свой
двор. Облегченно стукнула дубовым затвором калитки.
водой, скороговоркой присказывая заговорные слова, попискивавшего своего
малыша, он пускал пузыри, забыв кричать, таращил глазки, лез, суча
ножками...
лицо, шею и грудь с разом затвердевшими от студеной воды сосками.
Глуздынька, попав в тепло, успокоился, перестал пищать, жадно сосал
поданную грудь. Скоро начал отваливаться, заводить глазки. Домаша накрыла
ему личико, осторожно передала Полюжихе:
крыльце, послушала, как пастух играет в рожок, собирая кончанское стадо,
прошла в боковушу, принялась расчесывать волосы, все улыбаясь своему,
утреннему...


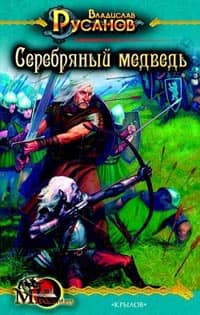

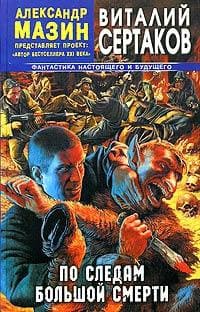

 Трубников Александр
Трубников Александр Громыко Ольга
Громыко Ольга Шилова Юлия
Шилова Юлия Василенко Иван
Василенко Иван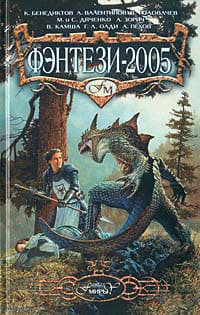 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Прозоров Александр
Прозоров Александр