голосов колокольных в дружном благовесте московских церквей.
***
К нему явились в дом. Самого Панфила, уже обещавшегося Богу, не тронули. На
беду, его не случилось дома. Сын так и не простился с отцом.
Борецкую и внука ее, Василия Федорова Исакова. Прочих, загодя намеченных
Иваном Третьим - Савелкова, Репехова, Арзубьева и Толстых, - забрали в
ближайшие дни той же недели.
затравленный мужик, объяснил, что посланы они из самой Кострицы, что ехали
близко месяца, москвичи не давали пути, исхарчились, стояли в дороге, что
три воза московские ратные люди забрали себе, что Кострица теперь государева
и Демид Иваныч просили Христом-богом о том не баять и, отколь они прибыли,
не говорить. Марфа помягчела лицом, вынесла горсть серебра, и возчики, не
мешкая, убрались со двора.
молодцами бил челом в службу Московскому государю) было отрадно, что хоть
один, хоть Демид не забыл прежних милостей и даже под угрозою, а помог
напоследях: прислал снедный обоз. От дворни Марфиной оставались считанные
люди.
Марфа, откидываясь, вытирая рот и пальцы рушником, и прибавила ровным
голосом:
прислушались.
спрыгивали с коней.
Дверь распахнулась наотмашь. Московский барин, коренастый и широкоплечий,
почти без шеи, с красным, грубым лицом и черною бородой, в харалужном
колонтаре под распахнутой шубой, стоял на пороге. За ним теснились ратники.
Он вошел, достал указ, подняв к лицу, не глядя на вставших женщин, начал
говорить громко:
По государеву слову велено тебя и внука поимать и заключить в железа!
шарили по стенам, полураскрыв рты, жадными до добычи глазами и не понимали,
почему так бедно у знаменитой боярыни (они не знали про летошний пожар,
истребивший златоверхий терем, и про то, что Борецкая истратила почти все
свое добро на оборону города), Олена и Пиша постепенно бледнели и оступали
Борецкую, не то стараясь ее защитить, не то сами ища у нее спасения. Когда
москвич сказал про Василька, лицо Марфы омертвело. Она повторила глухо:
стражникам. Марфа поняла:
москвичу:
не говори, пусть умрет в спокое! - сказала она и неспешно отправилась к
двери. Олена кинулась было к ней.
на мгновенье закрыв глаза, к косяку. Потом повела головой, словно отгоняя
что-то, сняла черное покрывало со спицы - укутать Василька, соболий опашень
для себя, подержала его в руках, усмехнулась, повесила назад, достала
простой, хорьковый, и вдруг, поворотясь, рухнула на колени под огромные
образа, едва не закричав в голос. Прошептала:
умереть вовремя, а не умирать семь лет подряд, ожидая конца! Себя ли я
слишком любила или свой город? Сына, последнего сына не сумела защитить!
слабость женскую, но сжалься, Господи, над Господином Великим Новгородом!
тяжело поднялась, постояла. Еще раз перекрестилась на иконы. Оделась.
недоуменно поворачивал голову от Пиши с Оленой к бабушке.
и не видать...
Одевая платок, сказала Олене:
слышала такого выражения в голосе у матери.
одевшись, Марфа подала Пише свернутую трубкой харатейную грамоту и кожаный
кошель. - Вольная тебе. До раззору выправила еще.
Бери, вольна ты, куда хошь, туда поди. Серебро в мешочке - твое.
забудут! Ты-то, старая, не забудешь ле? Ну, не рыдай, все в руце божьей!
мокрую от слез Пишу, примолвив:
дворе не оставайсе ни часу, к Прохору поди, примет, а там хоть в деревню
подавайсе, переждешь дико время-то! Потом обернулась к Олене, прикрикнула:
Пошли, Василий. Не идьте за нами! - остановила она Пишу с Оленой. - В окна
погляньте, бабьих слез москвичам не казать!
чем у нее, молодой и здоровой, и как невообразимо страшно остаться одной
навсегда, без ее твердого слова, совета, порою и брани, и без ее властных
глаз и твердых материнских рук.
давишний боярин вышел на крыльцо. Стражникам она головой показала на выход.
Один из них прошел вперед, а другой остановился перед Васильком, помаргивая
белесыми ресницами.
криком: "Баба, баба!" - кинулся к Марфе в колени и вцепился ручонками в
подол, тыкаясь головой, лицом, расширенными от ужаса побелевшими глазами.
ручонки, встряхнула:
задрожал и невесть с чего проворно захлопнул за собой дверь.
поклонилась ему в пояс, перекрестившись на большой образ новгородского
сурового Спаса в углу, и сказала негромко в пустоту, и это было последнее,
что она вообще сказала перед тем, как навсегда оставить Новгород:
YПИЛОГ
мальчонкой на ее дворе драчливо собирался в ушкуйники, а теперь стал
степенным молодым мужиком, со светлою округлою бородой, вышел за порог
низкой, сложенной из морского плавника избы, справил малую нужду и остоялся.
Тянуло с моря. Ветер предвещал ростепель. Еще не рассветливало.
ледяные камни. Он потянул носом холодную сырь - к погодью! Первые годы не
знали, как выжить. Отца схоронили через лето. Пробовали пахать вымерзало.
Проклинали холодную неродимую землю, а теперь приспособились, и уже казалось
не страшно, хоть и тонут здесь по осеням немало. Тянули сети, добывали
дорогую рыбу - семгу. Семгу меняли на хлеб. Дед пел старины про Золотой
Киев, про Новгород богатый, и давним, небылым виделось бедное новгородское
детство.
поветерь. - Уловишь ее в етую погодь!" Но оттого, что знал про семгу, знал
про морские течения и ветер, знал про лед, делалось радостно. Бывалоча: лед
и лед! Ну, шорош тамо, а тут шуга, шапуга, сало, нилас, да и нилас-то
всякой, темной и светлой, сырой, сухой, подъемной, нечемерж, молодик, резун,
а тамо - припай, снежной лед, заберег, каледуха, а тамо - живой лед, что
движется бесперечь, мертвый лед, битняк, тертюха, калтак, шельняк, отечной
лед, проносной, ходячий, сморозь, торосовой, налом, ропачистой, бакалда,
бимье, гладуха, гладун, ропаки, подсовы, грязда, несяк, стамуха, стойки,
забой, стычина, да и то еще не все! И вода бывает всякая, тут те и большая
вода, и полводы, и куйпога, сувой, сулой, маниха, перегруб, прибылая...
таки чудно! Море Белое! Купцы по осеням сказывали, в Новом Городи все стало


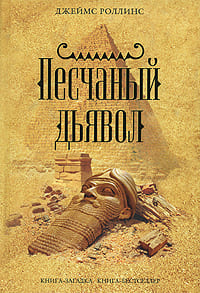
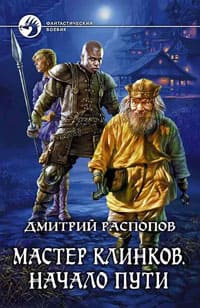
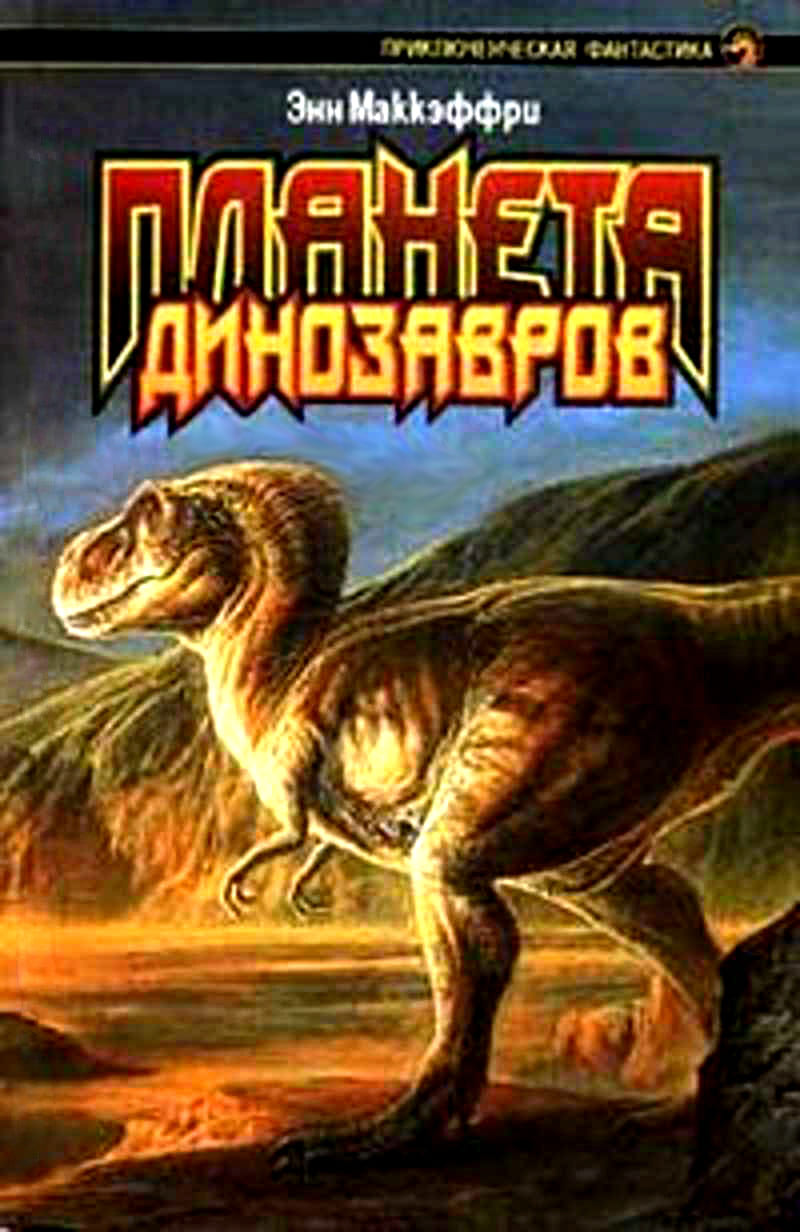
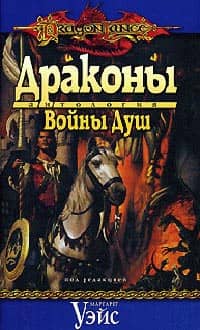
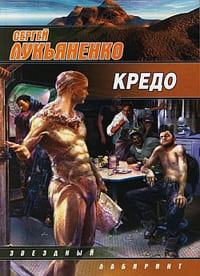 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей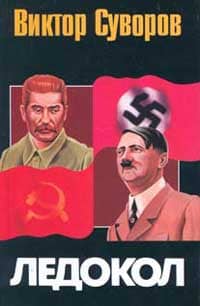 Суворов Виктор
Суворов Виктор Вронский Константин
Вронский Константин Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк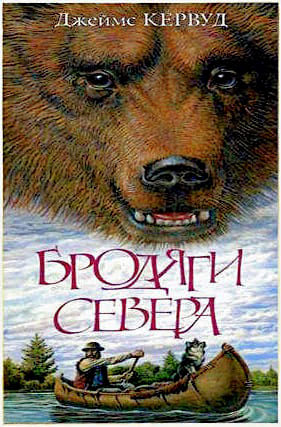 Кервуд Оливер Дж.
Кервуд Оливер Дж. Сертаков Виталий
Сертаков Виталий