отираясь, подобострастно и блудливо озирал роскошные сбрую и платье. С
презрением глянув на него с коня, Савелков спросил:
красненьком улыбчивом лице поднялись к Савелкову. - Как вашей милости, а тут
всякому кланяйсе, ужотко одна власть для всех! Вона, Онаньинича утишил!
Вы-то не больно-то до нас добры!
атласного коня, - жеребец прянул с храпом, кидая грязь, брызгами
разлетевшуюся с монастырской мостовой, понес вперед, - Савелков вылетел за
ворота.
седле, Иван все не мог унять злой обиды и повторял, сжав зубы,
издевательскую приговорку юродивого: "Не князь, а грязь. Не князь, а грязь!
Грязь! Грязь!"
стволам дерев. Иван горько усмехнулся:
составляли! А кабы и помог, не хуже ли стало бы еще? Разваливается все!
сюда? Не быть Новгороду! Не быть..."
сумасшедший скок коня! Неужели в кабалу к Ивану?!
***
воля Софийской стороны. То ли простыл, а скорее - душой надломился.
скудном свете лампад не разобрать было лица. Внесли свечи, и Марфа
ужаснулась - до чего изменился Офонас за три прошедших месяца! Дышал он
хрипло. Марфа посоветовала настой из трав, который, случалось, принимала
сама. Офонас повел головой:
Кирилыч да Федор Яколич... Помнишь Григория Кирилыча-то? Хоть не видали бы
этого сраму!
людей!
тише:
знала она его. Марфа обвела глазами горницу: иконы, лампадки во всех углах.
Тоже новое - не был особенно богомолен Офонас!
Офонас выпил, откинулся на взголовье. Из-под ворота рубахи, на сине-багровой
толстой груди видна была белая шерсть. Большие бугристые руки в коричневых
пятнах бессильно лежали на одеяле.
конец света грядет?.. А я верю. Раньше-то не верил, не чуял ее...
еще перед Рождеством был у нее на обеде, как шутил, как со вкусом ел рыбу,
долго прожевывая беззубыми твердыми челюстями, как он, не страшась, первый
подписывал грамоты, как одним присутствием своим, тяжелой медлительной
основательностью, даже глухотой вселял уверенность в других... А теперь - в
срок умереть.
Офонасом Грузом.
видно, казаться меньше перед умирающим старшим братом. Так же, боком,
поклонился Борецкой.
как помнила), - вместе мы были. Ты теперь Ивановну не покидай... и прибавил
сухим шепотом:
***
обозы. В часы отдыха нянчила внука Василия, Василька, рассказывала мальчику,
какой у него был отец, мешая черты Федора и Дмитрия: большой, сильный,
смелый...
еще пять-шесть друзей старых. Но однажды Олена застала мать за разговором с
Окинфом Толстым и услышала еще из-за дверей прежний властный голос матери и
сердитый голос Окинфа.
они говорили, - не то о Казимере, брате Якова Короба, не то вновь о
литовском короле?
управление во Пскове и их вразумило паче иных речей. Князь Ярослав
Оболенский, ставленник Ивана Третьего, все больше свирепствовал во Пскове,
облагая город поборами и отбивая смердов от городского вечевого управления.
Второго сентября, пьяный, учинил драку на торгу. Один из его слуг потянул
капусту с чьего-то воза. Возчик не дал, завязалась драка.
народ.
на него пошли с оружием, осадив князя в Кроме, Детинце псковском. Всю ночь
гремел набат, и вооруженные горожане стерегли князя. Посадникам с трудом
удалось утишить город. Об этом уже через день судачили в Новгороде,
предрекая и себе такую же участь от москвичей, ежели поддадутся великому
князю. Вновь город заколебался, вспоминая о своих древних вечевых правах.
побывавший у многих бояр, и у Борецкой в том числе.
Марфа. - А теперь ему в городе и веры нет! Пущай других уговорит, тогда и я
подумаю.
пристанут? Зато Иван Кузьмин, зять Овинов, ухватился за королевкого посла
обеими руками. Он да иные из пруссов и неревлян имели с послом долгие
беседы. Разговаривал посол и с Юрием Репеховым, наместником владыки Феофила.
Но все это было лишь чадом на пепелище, бледным воспоминанием о былых
погубленных надеждах.
начался у Николы на Розважи. Враз не могли унять, и вырвавшийся огонь пошел
гулять по улицам и берегу, слизывая амбары, терема, лодьи, груды леса и
добра. Казалось, огонь тщится пожрать все то, что еще не досталось великому
князю Московскому.
гулко, словно пушечные выстрелы, взметывая охваченные огнем сквозисто
просвечивающие бревна. Мерцающие куски огненной драни вились в столбах
горячего воздуха, душной гарью заволакивало улицы. От колебания ветра вся
Великая враз наполнялась нестерпимым жаром, от которого сохла кожа на лице и
шевелились, затлевая, одежды на людях. Горячие головни падали, как редкий
сухой град, с шипом догорали на уличном настиле, выжигая в мостовой черные
круги.
добром, кули с мукой и житом, выкатывали бочонки. Марфа, стоя на улице,
неотрывно глядела, как занимался, несмотря на все тщетные усилия дворни,
угол великого терема, как чернели и жухли листья на яблонях сада, как по
черным, с повисшими тряпочками листвы сучкам стали разбегаться огненные
мураши, и вот уже долгие желтые языки принялись лизать погибающий сад,
охватывая кусты и деревья. Длинным золотым змеем пробежав по забору, пламя
вцепилось в него, извиваясь и корчась, вот оно кинулось на крышу дворницкой,
а сзади двора водометом взметнулись искры выше терема, выше маковиц
золоченой кровли, раз, другой... Упадая и вновь взметываясь к небесам, пламя
охватило терем, и вот уже маленькие красные чертики побежали по золоченым
черепицам, и вышка, черная в огненном пламени, вдруг вырыгнула изнутри
длинный сноп огня и вся стала как пылающий факел. Терем погибал. Рушилось
все, что было славой, гордостью и величием рода Борецких. Резные расписные
грифоны исчезли в огне. Лопались, выметывая клубы огненного дыма, немецкие
цветные стекла. На миг дивною красотою извилось пламя по прорезному узорочью
опущенной кровли. Внизу голосили бабы, совались черные от копоти мужики,
ржали испуганные кони, которых под уздцы выволакивали из объятых огнем
конюшен. Не переставая сыпалась тлеющая сажа, а вверху, выше кровель, ярко
плясало предсмертное пламя, уносясь в огненной метели былого счастья,
гордости, удали и смеха сыновей, и рушились в ничто черные, просквоженные
огнем венцы.





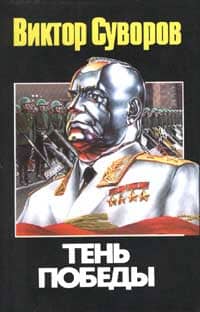
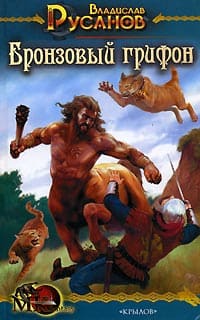 Русанов Владислав
Русанов Владислав Контровский Владимир
Контровский Владимир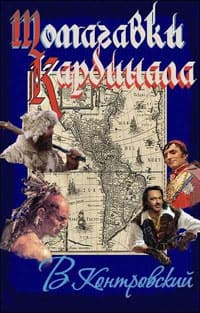 Контровский Владимир
Контровский Владимир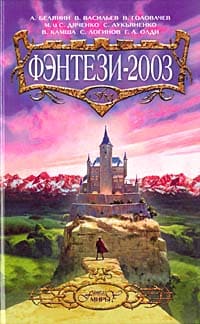 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий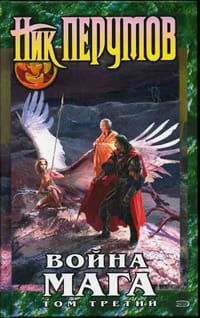 Перумов Ник
Перумов Ник Свержин Владимир
Свержин Владимир