покаялись о беззаконьях наших, не отступили от злых обычаев своих: но аки
зверье жадают насытитеся плотью, тако и мы жадаем поработити друг друга и
погубити, а горькое то именье и кровавое себе пограбити.
отступите, братие, от дел злых и темных! Помяните честно написанное в
божественных книгах, еже есть самого владыки Господа нашего большая
заповедь: любити друг друга! Возлюбити милость ко всякому человеку, любити
ближнего своего, яко и себя!
<Отче наш, остави нам грехи наша>, а сами не оставляюще? В ту же бо, рече,
меру мерите, отмерится вам!
оглядел паству, добавил тише, с грустною укоризной:
закона божия не ведуще, не убивают единоверных своих, не ограбляют, не
обадят, не поклеплют, не украдут, не заспорят из-за чужого. Всяк поганый
брата своего не предаст, но кого из них постигнет беда, то выкуплют его и
на промысел дадут ему, а найденное в торгу возвращают, а мы что творим,
вернии?! Во имя божье крещены есмы и заповеди его слышаша - а всегда
неправды исполнены, и зависти, и немилосердия. Братью свою изграбляем, в
погань продаем, кабы мощно, съели друг друга!
зверь есть, не иноверец, такой же русин и брат твой во Христе! Или
бессмертен еси? Или не чаеши суда божия?
к деянию. И сколь легче откупиться от совести свечой, вкладом или иным
приношением, чем жить по завету Христову, по завету братней любви!
блажен тот, кто услышал слово в юности, когда ум и душа открыты правде и
слово падет не на камень и не в пучину морскую, а на ниву благодатную и,
рано или поздно, произрастет в ней семенами добра!
свою совесть по слову святителя, отметая благие порывы от дел, и дел
оказывалось совсем немного, много меньше, чем хотелось тому и другому.
Просветит ли им за жизнью, с ее бедами, трудами и прельстительными
радостями, днесь услышанное слово, даст ли оно плоды добрые, и когда, и
как?
ссорами, когда Феодора холодно молчала, упорно отводя непроницаемые глаза,
а князь в гневе пушил слуг или кидался на конь, носился по полям, загоняя
скакунов и себя бешеною охотой. Однако с тестем они сошлись. Давыд умел не
замечать капризов старшей дочери, а князя увлекал далеко идущими планами,
которым Андрей внимал все с большим и большим интересом.
Тверского, Давыд Явидович и повез его в Ростов, сперва одного, а потом с
молодой женой, прихватив и вторую свою дочь, Олимпиаду, только-только еще
выходившую из детского возраста.
ростовские поднесь пользовались особым уважением среди потомков Всеволода
Великого. Память прошлого величия, а такожде древние споры о старшинстве и
старинная, дедовская обида отделяли их от прочих Всеволодичей. Некогда
старший сын Всеволода, Константин, вопреки воле родительской, <не восхоте
оставить Ростова>, и Всеволод, опалясь на первенца, передал
великокняжеский престол второму сыну, Юрию. Константин, оставшийся в
Ростовской земле, по словам летописца, <воздвиже брови своя с гневом> на
советников отца и вскоре после смерти Всеволода, в 1216 году, в грозной
сече на Липице, наголову разгромил соединенные войска братьев, Юрия с
Ярославом, воротив себе княжение владимирское.
просидев на великом княжении и трех лет. Свою волость, Ростовскую землю,
куда входили Ростов, Ярославль, Углич и Белозерск, он оставил детям,
Васильку, Владимиру и Всеволоду (и те вскоре разделили ее на три удела), а
владимирский стол перед смертью воротил Юрию, заповедав сыновьям во всем
слушаться дядю. Почему он так сделал? По лествичному счету это было
правильно: младший брат наследует после старшего. Но самому же ему
пришлось отстаивать это право оружием - поизветшала великая киевская
старина! Каждый князь старался оставлять добытое в роду. Возможно,
Константин предвидел, что Юрий с Ярославом не успокоятся (а дети были еще
малы, старшему, Васильку, сравнялось только девять лет), и, избегая
кровавых ужасов, решил уступить сам. Или, взвесив все и глядя на мир
сквозь мудрость веков, взвесив и примирясь, счел право выше силы; или
просто устал от борьбы, от глухой вражды бояр, соболезнующих Юрию, и
махнул рукой... Впрочем, иногда глубокая мудрость нужна именно для того,
чтобы поступить самым простым образом.
саблями татар. Юрий, воротивший престол после смерти Константина,
бесславно погиб на Сити, умер и Ярослав Всеволодич. Из ратников, которые
дрались на Липице вкупе с Константином и видели его, высокого, с
порозовевшим лицом, упрятанным глубоко под высоким граненым шеломом, в
час, когда новгородские пешцы пошли на приступ, пометав шубы и сапоги, и
когда он, оглянув из-под ладони поле боя, веселым голосом бросил: <Спаси
Бог, надо помочь этим добрым людям!> - и сам, с дружиною, врубился в
разрушенный новгородцами строй Юрьевых полков, довершая разгром
суздальской рати, - из тех воев теперь, через полвека, мало кто и остался
в живых. Лица деда не помнили ни Борис, ни Глеб, родившиеся много спустя
после его смерти, ни невестка, вдовствующая мать ростовских князей,
вышедшая замуж за Василька, когда Константина уже не было на свете. Лишь
старик книгохранитель в Ростове помнил старого князя: сухощавого, с высоко
возведенными бровями на длинном, с нездоровою желтизной, породистом лице,
когда он, кутаясь в бархатный, подбитый соболями охабень, сиживал в
княжеской книжнице, перебирая свои рукописные сокровища и, слегка шевеля
губами и далеко отодвигая книгу от дальнозорких глаз, читал про себя,
по-гречески, еллинских древних мудрецов, труды Хорикия, Оригена или
отреченные церковью сочинения Ария.
уважение всех просвещенных людей от Киева до Новгорода. Здесь было собрано
старым ростовским князем чуть ли не все, что могло быть в ту пору на
русском, греческом, а также еврейском и латинском языках: полное собрание
библейских книг, жития и поучения отцов церкви, сочинения Иоанна
Златоуста, Василия Великого, Григория Назианзина, Палладия, Феодорита,
Григория Нисского, Афанасия Александрийского, Синесия, Иоанна Дамаскина,
Фотия, Евгениана и других; хроники, труды Пселла и Константина
Багрянородного, Геродот, Фукидит и Ливий; отреченные писания еретиков,
проклятых на Соборах, русские летописи, начиная от творения божественного
Нестора, проповеди и <слова>, жития русских святых и <хождения> паломников
в Царьград и Святую землю. Были тут служебники и крюковые рукописи, по
которым пели в Ростовском соборе; были книги законов, сборники старых
грамот и актов, пергаменные свитки с позолоченными печатями и берестяные
грамоты из отдаленных уголков страны. Были книги толстые, в тисненых
кожах, украшенные серебром, золотом и драгими каменьями, были маленькие,
засаленные и ветхие, прошедшие через тысячи рук и через много веков, было
даже несколько книг на папирусе, и одна из них с непонятными
знаками-рисунками, как говорили, колдовская, сочинение древних египетских
жрецов, прочесть которую уже никто не мог...
Константина осталась цела. Ее растаскивали потихоньку по монастырям (во
время осмотра хранилища епископом, после смерти князя, были сожжены, яко
отреченные, сочинения Ария и богомилов), книги таяли неприметно, как тают
годы спокойной жизни, но все же собрание продолжало изумлять знатоков, и
Ростов теперь, после разгрома Киева, Чернигова и Владимира, оказался
средоточием учености, куда приезжали книжники из иных градов и весей, где
составлялась, несмотря на разгром и запустение страны, общерусская
летопись, куда ехали учиться церковные иерархи и миряне, посвятившие себя
книжной премудрости...
и огромный собор, не уступающий владимирским, обвитый каменными поясами
резного узорочья, с цветными мозаичными полами, блистающий золотою
утварью, с драгоценными паникадилами и хоросами литого серебра; и
краснокирпичная палата Константина среди просторных и затейливых расписных
хором княжеского двора; и пышные усадьбы богатых горожан; и обилие часовен
и храмов. То, что Ростов не был сожжен татарами Батыя, сказывалось на
всем. Густое и благополучное население наполняло улицы, на торгу прилавки
ломились от товаров, своих и иноземных, снедь громоздилась кучами.
далями, с теми же черными полосками рыбачьих лодей. Только город гуще и
плотнее оступал берег. Прибрежные монастыри, казалось, вставали прямо из
воды и смотрелись в свои отражения. Прямо к воде подступала городская
стена, а за ней и над нею толпились кровли, кровли и кровли древнего
города.






 Лукин Евгений
Лукин Евгений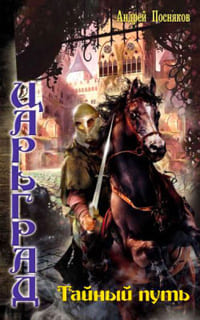 Посняков Андрей
Посняков Андрей Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Курылев Олег
Курылев Олег Корнев Павел
Корнев Павел Самойлова Елена
Самойлова Елена