встречал Александрова сына. Андрей был счастлив. Тут, в Ростове, ничто не
напоминало ему, что он не самый старший в семье. Не было непроходящей
внутренней обиды от постоянного соперничества с Дмитрием, отравлявшей ему
каждое возвращение домой, в Переяславль.
и на кончиках усов, встретил его на крыльце, раскрыв объятия, и
приветствовал как равного. Облобызав Андрея, церемонно отступил, склонив
благородную голову - пригласил в терема. Княгиня, Марья Ярославна, тоже
вышла к гостю, приветила городецкого князя с веселым неотяготительным
радушием. Чередою подходили дети и подростки, в которых Андрей не сразу
разобрался, и, кажется, нарушал в чем-то чин встречи. Впрочем, вот этот, с
холодными серыми глазами - старший сын Бориса Васильковича, Дмитрий, а
тот, голенастый, с живым лицом - младший, Константин.
княгине. Престарелая Мария Михайловна, благостно-легкая, с прозрачными
руками и темно-коричневыми кругами у глаз, все еще прекрасных, несмотря на
высохшую шею и обострившийся, словно подъеденный временем очерк лица,
также приняла князя Андрея ласково и сердечно. Приподнявшись из точеного,
с полукруглой спинкой старинного креслица, она протянула ему руку, и
Андрей, принявший ее прозрачные пальцы в свои твердые широкие ладони,
смутился, не зная, что делать. Впрочем, старая княгиня тут же с легкой
улыбкой отняла руку, произнеся несколько уставных приветственных слов.
князя провели в предназначенный для него покой, княжич Дмитрий, подняв
холодные глаза на отца, спросил негромко:
несколько беспокойно прервал его Борис Василькович. - С Андреем Санычем
тебе, мой друг, когда ты станешь князем, придет иметь дело - и... и не
надо, пожалуйста, не надо замечать... Будь добрей, ради... Ради меня!
какого-либо отчуждения со стороны гостя. Сыновья ростовского князя, и
Дмитрий и Константин, были достаточно младше городецкого князя, чтобы
уважать в Андрее старшего, но и не настолько, чтобы начать чуждаться, как
молодежь чуждается стариков. Дети и подростки, собравшиеся вместе,
затевали игры, гурьбой, с веселыми возгласами и смехом, бегали по лесенкам
и переходам дворца, и от их веселой возни становилось легко и просто.
молодую жену. Феодора держалась с ровным нестесненным достоинством. То,
что дома порою казалось заносчивостью и капризами от вздорного нрава,
здесь и очень пригодилось, и отнюдь не казалось церемонным или смешным. И
ее гордые, чуть приподнятые плечи, царственный поворот головы, писаные
дуги бровей и полуопущенные ресницы, сдержанная - больше глазами, чем
ртом, - улыбка, и легкая плавная поступь, и то, как они сидела, прямо и
легко касаясь скамьи, как брала, отламывая маленькими кусочками, хлеб, как
свободно пользовалась двоезубой цареградской вилкой, как ела, лишь слегка
приоткрывая рот, словно только отведывала и вместе опрятно, без обидной
брезгливости, отдавая должное изысканным блюдам ростовской княжеской
кухни, как беседовала с княгинями, как почтительно, опустив ресницы,
внимала Марии Михайловне; и Андрей, глядя со стороны, узнавал и не узнавал
жену в строгой красавице, чьи точеные черты по странному сходству
перекликались с сухими стремительными чертами Марии. Феодора сумела
очаровать старую Марию Михайловну до того, что та, расчувствовавшись,
сказала Андрею наедине:
княжеский. Мы ее полюбили! Не забывай!
не забывая, что боярин, но и не унижая себя как княжеского тестя. За
столом сидел скромно, но, однако, постепенно сумел речами и рассказами
расположить и к себе тоже ростовских князей и княгинь. А маленькая
Олимпиада вовсю любезничала с Константином, с хохотом убегала от него,
играя в горелки, и пятнадцатилетний Борисович тоже хохотал и краснел,
хватая девушку за плечи.
малышом Василием, как неложно любит и любуется она своим супругом, как и
Борис Василькович отвечает ей тем же, не стыдясь на людях оказывать
постоянные знаки внимания жене: подаст платок, похвалит шитье, заботливо
спросит о здоровье или за обедом сам, прежде слуги, придвинет серебряную
уксусницу. Брат Бориса, Глеб Василькович, был в отъезде, но маленький сын
Глебов, Миша, <татарчонок> (князь Глеб был женат на ордынке), тоже
находился здесь и играл, и бегал, неотличимый от прочих членов княжеской
семьи.
лишен <вежества>, и тихо досадовал на мать, не обучившую его тому, что так
необходимо для князя и в чем даже Феодора его далеко превосходила.
Кажется, в первый день еще он, усталый с пути, оставшись вечером в покое,
о чем-то с грубой заносчивостью попросил слугу-ростовчанина так, как
привык дома, у себя. Тот, однако, ответил почтительно, без подлой
холуйской усмешечки, и тотчас принес просимое, а принеся, замер в
бесстрастной готовности услужить высокому гостю в любой прихоти. И Андрей
понял, что гневаться на слуг было глупо. Их просто можно было не замечать.
перенимать свободную легкость движений, сдержанную гордость без
заносчивости, но с полным ощущением превосходства над людьми не своего
круга. Дмитрий, спрашивая встречного смерда, не глядел поверх головы, как
Олфер Жеребец, не чванился, но в ясном холоде его глаз читалось такое
отстояние, такая бесконечная, бездонная пропасть между ним и
простолюдинами, что и вежливый наклон головы, коим он неизменно оканчивал
разговор, казалось, отодвигал смердов от Дмитрия Борисовича гораздо далее,
чем Жеребцова брань.
невольно отдавал дань уважения костромскому воеводе, который первым начал
учить его соблюдению княжеского достоинства всегда и везде, а не только на
боярском совете и в думе да на приемах послов.
тешившая самолюбие Андрея, а еще более его тестя, который верил и не верил
пробрезжившей возможности пристроить свою меньшую, Олимпиаду, тоже в
княжескую, да еще в такую старинную и уважаемую, как ростовская, семью.
прогулку, забрались особенно далеко. Они проехали Чудским концом, и
Дмитрий показал место, где стоял некогда древний идол Велеса, сокрушенный
тростью подвижника Авраамия.
камени многоцветного, долго стоял у княжого двора, наконец при епископе
Исайе, во время большого пожара, когда страшная громовая туча зажгла град
и капище, сам вышел из своего пылающего храма и пошел по брегу, среди
горящих хором, а озеро кипело у него под ногами и выбрасывало на берег
рыбу.
сдерживая улыбку. Андрей вдруг понял, густо покраснел. Сбоку, сердито,
глянул на спутника. Но Дмитрий Борисович внимательно глядел в другую
сторону, узя глаза, и небрежно прибавил: <Так бают!> - разом отрекаясь от
древнего сказания, в истину коего христианину, да к тому же князю, верить
было бы зазорно. Они миновали городские ворота, последние избы
окологородья, и по полого вьющейся вверх дороге углубились в поля.
Дружинники ехали много сзади, чтобы не мешать беседе князей.
листвы тяжелыми массами вздымались ввысь, птичий щебет и пронзительный
свет солнца, полуприкрытого тяжелым клубящимся грозовым облаком, наполняли
вершины дерев. Впереди и чуть отступя стоял неохватный великан, протянув в
стороны из своей зеленой ризы две огромные сухие и зловеще извитые ветви,
словно громадные руки, задранные вверх.
тоном, каким только что повестил старинное предание.
и свежие венки и несколько конских черепов, добела отмытых дождями и
солнцем. А когда подъехали ближе, то от темного пятна на траве под дубом
потянуло к ним тяжелым духом свернувшейся крови и изумрудные мухи
потревоженно загудели в воздухе.
требам у себя, под Городцом, он не ожидал, однако, что такие же радения
справляют столь близко от города, где уже почти три века воздвигнут
епископский престол.
подъехали к дубу и остановились под его сенью, глядя, как далекий дождь
косыми столбами медленно волочится по земле и озеро белеет под ним, словно
закипевшее молоко.
воспретил, - уронил Дмитрий. - Бает, хватает нам и ордынских забот!
Смердам не объяснишь, что с ханом опасно спорить. Татарского выхода никто
из них не желает платить. Уже не раз собиралось вече, от отца требуют
разрыва с Ордой.
княжеских глаз.
казался гораздо старше своих семнадцати лет. - Батюшка полагает, что
прежде достоит просветити малых сих... А по мне - что может понять эта
меря, которая о сю пору молится древиям и камням? Смерды! Трава, не



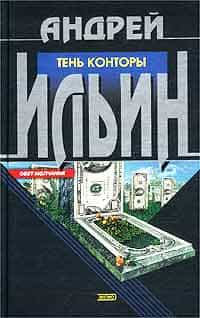
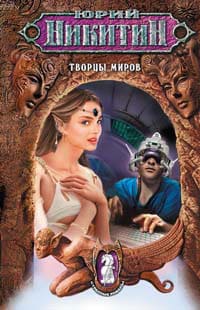

 Шилова Юлия
Шилова Юлия Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Василенко Иван
Василенко Иван Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Ильин Андрей
Ильин Андрей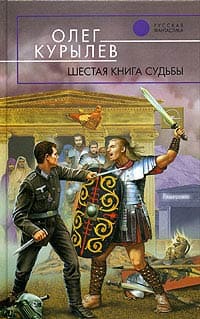 Курылев Олег
Курылев Олег