мужики! Охолонь! Так, легче! Третье подстропилье давай!
бревно, мужики.
коню, его держали за руки. Потом все гуртом сошли в избу. Феня металась,
подавая на стол. Никанор, пьяно покачиваясь, подымал на руки малыша:
мужиками, целовал всех подряд, его трескали по спине:
за ночь, лежал на бревнах. Феня уже стояла наверху, обметала веником.
Федор, опохмелясь, полез на дом.
забежал к Никанору, проведать старика. Дед лежал, уходясь со вчерашнего.
Никанориха парила ему ноги и ругмя ругала и его и Федора. Он поскорее
ут°к. И все-таки дом рос и был уже почти что готов!
укосины, поправил стесы самцов. Как раз отпустило, снег стаял и повеяло
коротким теплом. Дед Никанор, оклемавшись, помог уровнять и подогнать
курицы. Воротился Прохорчонок. Тут же вдвоем стали крыть кровлю
заготовленной с лета крупной дранью. На счастье, подоспели еще двое
мужиков, так что и с кровлей справились. Осталось поднять охлупень. Федор
съездил в Купань за Ватутой, не отпуская от себя, привез домой. Вечером
пили, ночью Ватута лазал пьяный по клети, блевал и не давал никому спать.
Утром опохмелялись, скликали народ и соборно начали здымать охлупень.
Упрямое бревно медленно, со скрипом оторвалось от земли. Слеги прогибались
и дрожали. Бревно, под крики мужиков, лезло вверх и наконец село на свое
место. Все.
стороны пугающую, уходящую вниз крутизну. Серое небо. Ветер. Кровля.
Далеко - озеро. Все видать! И гулом в жилах, в крови отступающая усталость
и начинающее приливать счастье. Все не верил. Но верил ведь! До
последнего! Уже и дня лишнего нельзя было больше оставаться в дому.
Свершил. Вот!
Мать (недавно воротилась домой), не ругая, подавала на стол. Утром
собирала в дорогу.
гульбище, стелить полы, ставить двери и окна с рыбьим пузырем, еще тесать
стены, еще... еще... еще... Еще узорить и украшать. Потому что красота,
она - к труду. Ежели бы легко строилось, не было бы и красоты. Красота:
резные балясины, опушки, узорные столбы - это щедрость мастера, утеха,
игра после тяжкого труда. Последний мазок, печать мастерства, тамга на
товаре, мол - и так хорошо, а я эвон еще как могу!
удовольствие сделать.
оглядывался назад: дом стоял готовый, свершенный. Кровля подымалась выше
всех княжевецких кровель, выше дерев, и далеко еще виднелась, и все не
пропадала из глаз. Его дом. Его место, его корень на этой земле!
кормлении ему уже не удалось. Князь Митрий, в который раз снова мирясь с
братом, возвращал отобранные села Андрею и боярам его. Волостель,
пересидевший таки Федора, мог радоваться. С возвращением господина он
снова становился хозяином волостки, и уж верно, - думал Федор, покидая
Олферово село, - теперь мужикам, державшим руку Федора, придется
расплачиваться. Эх! Не зря прошали его: надолго ли князь забрал деревни
себе!
Феню. Феня, несчастная от постоянной грызни, срывала сердце на Федоре. Он,
глядя на нее, думал: <Почто красивые достаются важным господам, а ему
такая вот?> (И был неправ, и сам знал, что неправ.) Сын бессмысленно
таращил глаза. От него вечно несло кислым духом, тряпки, в которые
заворачивали малыша, чаще просушивали, а не полоскали... Отделка дома шла
медленно, и они все еще не перебрались в новое жило. Чтобы выбраться из
полунищеты, постоянных нехваток того и другого, следовало, уж коли не
бросать земли, добывать холопа. Хозяйство с постоянными отлучками шло
кое-как. Грикша почти не помогал, и винить его тоже нельзя было.
Тверского. Толковали, что Тверь не хочет платить ордынского выхода, но в
это уже как-то не верилось: с кем ни начинали воевать, все ссылались на
ордынский выход! Что-то было еще промеж князей, промеж великого князя
Дмитрия и Тверью.
Кснятин. Опять стояли - дожидались городецких, ростовских и московских
ратей. Кснятин брали приступом. Федору внове было лезть на скользкий от
льда и облитого водой, заледенелого снега вал. Лезть под зловещий посвист
стрел, что летели с заборол. Он все же долез (рядом убили мужика, и он
видел, как ставшее мягким тело спадает, съезжает вниз по склону). Под
стеною, укрывшись от стрел, Федор остоялся, сжимая клинок, не понимая, что
делать дальше. Впрочем, уже волокли лестницы. От ворот доносились гулкие
удары, там стеноломом выбивали створы. Лестницу долго и бестолково
ставили, крича и ругаясь. Стреляли с той и другой стороны, раненые
отползали назад. Наконец поставили, и какой-то черный, малорослый,
широкий, точно клещ, ратник, быстро побежал вверх по качающимся
ступенькам. Скоро вся лестница шевелилась, потрескивая, облепленная
мужиками. В это время у ворот поднялся крик, видимо, вломились. И Федор,
прикрываясь щитом, побежал вдоль городни туда. Город был взят. Где-то в
улицах еще продолжали биться, но здесь уже начинали грабить. Федор,
растеряв своих, шел, озираясь, вдоль теремов и клетей. Там и тут что-то
трещало, с отчаянным кудахтаньем летела через тын черная курица, слышались
визг и вой. Какие-то бабы бежали, спотыкаясь, по улице, ратник гнал их,
угрожая копьем. Четверо переяславцев крушили ворота богатого терема. У
церковных врат стоял, без шапки, священник и, подымая крест, раздирая рот,
кричал, отпихивая ратных, что рвались внутрь церкви. Священника дергали за
ризу, он цеплялся, замахиваясь крестом, глядя ошалевшими, в кровавой
паутине глазами, брызги слюны летели изо рта. Федор уже хотел вмешаться,
но кто-то крикнул: <Сюда, братва!> - и ратники кинулись, оставя священника
и церковь. По улице шагом ехал боярин в шишаке и броне под распахнутой
шубой, сжимая саблю в опущенной руке. С клинка медленно капала кровь. Над
ближними кровлями уже подымался дым пожара.
до лабазов и, отпихнув каких-то перепуганных, вынес постав дорогого сукна.
Постав был тяжелый, и Федор, стыдясь самого себя, шел, покачиваясь,
закинув щит за спину, с ношею на плече. Сабля путалась в ногах, мешала
ступать. Гнали полон, и он старался не смотреть на жалкие лица мужиков,
баб с ребятишками, старух, что мелко трусили впереди охраны.
ополонились все, и все, хвастаясь приобретеньем, глядели косо, мимо глаз.
божий! Говорю: бяжи! Он мне в ноги, спаси, мол...
сгорали вместе с жильем, вились в воздухе, падали в огонь.
Городецкого, Дмитрия Борисовича Ростовского и Данилы Московского - от
Кснятина подступили к Кашину и стали зорить округу. Князья торопились друг
перед другом набрать полону, подкормить ратников. Тверская рать меж тем
выступила на помочь кашинцам и, сказывали, потеснила москвичей. На девятый
день стали пересылаться и замирились. Михаил, семнадцатилетний мальчик,
сам приезжал в стан к Дмитрию. Тверь уступила, силы были слишком неравны*.
была горечь. Сожженный Кснятин камнем лег на душу. Город запирал устье
Нерли, перехватывал переяславскую торговлю. Сжечь надо было. Этого
требовали все. Полон, - кто был из своих, переяславских, - Дмитрий поселил
в городе и по селам, дав лес на первое обзаведение, а тверских выкупил у
него Михаил. Но по большому счету он поступил с Кснятином не как великий,
а как удельный князь, отстаивая свои, переяславские интересы. Так, год за
годом, изгибало наследие Всеволода Великого - единая Владимирская земля!




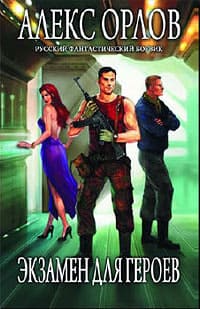

 Посняков Андрей
Посняков Андрей Маркеев Олег
Маркеев Олег Круз Андрей
Круз Андрей Березин Федор
Березин Федор Панов Вадим
Панов Вадим Куликов Роман
Куликов Роман