году выпал рано, и сразу приморозило. Мертвые леса стояли темной
игольчатой стеной вокруг белых озер - заметенных снегом пашен. Робко
курились соломенные крыши укрытых снегом деревень. Редко заржет конь,
проскрипят полозья. Мужик, озираясь, проедет, долго тревожно вглядываясь
во встречного, и, узнавши, что свой, прокричит:
головой, решительно заворачивает коня к дому: бежать, так загодя, татары
придут, поздно станет!
груди:
свое бормочет:
объявлен сбор окольной рати, - а Грикши как на грех нет. Прислал весточку,
зовет семью туда, в Москву, отсидеться. Хлеб и добро уже зарыты. Дядя
Прохор с сыном давеча зашли. Прохор сильно сдал, прибавил морщин. Посидел,
усмехнулся бледно:
На Горелом займище отсижусь.
поморозит.
уеду!
московского князя отсидеться. Грикша при монастыре, дак и голоду не
увидишь!
и Федор, поняв, что женка уступила, мысленно крестится.
чтоб. Я до Гориц провожу! - как можно строже говорит Федор.
соседи и те покорыстуютце...
лесу, отгоняют скот, подале от ратных завидущих глаз. Впрочем, уезжает
совсем - мало кто. На одних санях, с одной лошадью, да коли восемь ртов,
куды кинешься?!
печей. Многоглавым Змеем Горынычем повисла над страною беда.
стало, что хан Тохта послал на Русь своего брата Дюденя* в силе тяжце.
подошли к Владимиру. Город открыл ворота Андрею Городецкому без боя.
Владимирские бояре переметнулись к Андрею, как только узнали, что Тохта
пожаловал ему, в обход старшего брата, ярлык на великое княжение. Андрей
хотел вести татар дальше, но те потребовали платы вперед. Казна была
пуста. Меж тем ордынцы пришли на Русь за зипунами и не признавали никаких
уговоров. Многие даже и не знали, какой русский князь, куда и зачем их
ведет. Дома остались стужа, падающие от бескормицы стада, голодные жены и
дети. Разряженные монгольские нойоны уже не могли, да и не хотели,
сдерживать своих людей, оборванных, злых, раздраженных близкой добычей,
уже разоривших по дороге сюда древний многострадальный Муром. Ордынский
выход, что платили русские князья, оседал в руках хана и его приближенных,
не доходя до рядовых ордынцев, вчерашних кипчаков и булгар, сорванных со
своих мест и перемешанных властной мунгальской волей. Войско жило
грабежом, и от грабежа к грабежу. Войску была нужна добыча, а какой
урусутский хан сядет потом на престол - не все ли равно! Да и сам царевич
Дюдень не желал терпеть отсрочек:
посмеиваясь.
Андрей едва успел увести из города свою рать и убраться сам. Дмитрий
Борисович с Константином в панике ускакали в Ростов - отсиживаться.
Татары, как прожорливые муравьи, растекались по Владимиру. Не щадили
никого, грабили горожан и бояр, обдирали церкви и монастыри. Во
Владимирском соборе расхитили утварь и ризы, одрали оклады с икон, выдрали
даже и чудное медяное дно (плиты пола) в соборе.
саранчой растекаясь по Ополью. Перед ней все бежало. Был взят и разграблен
оставленный жителями Суздаль. Суздальский князь с дружиной, не оказав
сопротивления, укрылся в лесах. Волна татарской конницы, зверея от
грабежей, докатилась до союзного Углича и, невзирая на то, что Константин
Борисович был вкупе с Андреем, разорила город вконец, уведя огромный полон
и взяв откуп со всех, кто остался.
разграбленный, к Переяславлю. Ордынцы рвали добычу из рук друг друга, не
щадя ни старых, ни малых. Андрей пытался что-то сделать, как-то направить
татарский поток, но уже ничего не мог. Он послал на Переяславль Федора
Черного, и тот шел с полками позади татар, нигде не встречая противника.
Отдельные боярские дружины, завидя своих, русичей, выходили из лесу,
сдавались Федору, абы сохранить жизнь, или переходили на сторону
победителей.
сами от брошенного без призора огня сбежавшими в леса жителями. Встречу
Федору Черному попадались ополонившиеся татары, гнавшие перед собой
русский полон: мужиков, скот, баб с ребятишками... Полоняники с жалкой
надеждой глядели на проходившую мимо них ярославскую рать, и ярославцы зло
сплевывали, отворачивали лица, ярили коней.
жизнь он лез, лез и лез, яростно обдирая ногти, подличал, изменял, льстил,
всю жизнь он ненавидел: братьев, что выгнали его из Смоленска; прежних
ростовских князей, Бориса с Глебом, облагодетельствовавших его и после не
пускавших на семейные торжества; властную пратещу, Марину Ольговну,
пустившую про него обидную кличку <принятой>; ненавистную тещу Ксению, что
чуть не выжила его из Ярославля; дурочку-жену с ее безответной постылой
влюбленностью; не любил и дочерей ее, не считал их даже своими и
облегченно вздохнул, выдав замуж; ненавидел сына, которым пытались его
заменить теща с боярами и которого он успел уморить прежде, чем князь
Дмитрий собрался увезти мальчишку из Ярославля. Сына Федор ненавидел так,
что даже теперь еще испытывал злое торжество от того, что успел-таки, что
посланцы великого князя остались ни с чем и не получили от него ребенка (а
с ребенком - ярославского княжения, обязательно тогда бы доставшегося сыну
Марии, а не его, Федора Черного, детям от второй, ордынской, ныне уже
покойной жены). Он и ее, ордынку, любил не столько за нее самое, сколько
за славу ее отца, хана Менгу-Тимура, и ярился, когда до него доходили
липкие укоры: <Двоеженец, бесерменин>. <Самим бы так! Да руки коротки!> -
Федор Черный себя не считал двоеженцем. Венчали их в русской церкви, а что
постылая Мария тогда еще не умерла... Умерла же она в конце концов! Могла
бы и в монастырь уйти, коли на то пошло!
покажет этим воронам, Всеволодичам, всем покажет! Взять Переяславль
(обещанный Андреем), сердце земли, а там... От дальних планов у Федора
кружилась голова. Хищно озирал он бредущих полоняников: <Ишь! Гонят, что
скот! Поди тоже нос драли: мол, за самим за великим князем! Бараны!> Порою
вглядывался, нагибаясь с седла, в какую-нибудь свежую молодку. От него
шарахались с испугом. На шестом десятке лет Федор давно уже потерял свою
прежнюю необыкновенную красоту. Заострился и как-то отвис нос, посеклись
брови, недобрые складки избороздили щеки и чело. Не то рысьи, не то
соколиные, когда-то завораживающие глаза князя теперь, обведенные тенью и
сетью морщин, пугали пронзительным безумным блеском. Сластолюбиво
выпяченные губы в серо-желтой неопрятной бороде были отвратительны. И
более всего было отвратительно то, что сам Федор всего этого не знал, не
видел, по-прежнему считая себя тем, давним, щеголем и покорителем сердец,
каким он был когда-то, давным-давно, четверть века тому назад.
остановить татар. (Втайне он ждал помощи от Ногая, но тот, видимо, уже
ничего не мог изменить и ничем не мог помочь своему русскому улуснику.) Но
все было напрасно. Полки таяли, растворялись в лесах. Посланные в сторожу
воеводы не возвращались или переходили к противнику. Облепленные снегом
гонцы на загнанных лошадях привозили все новые вести об изменах и
бегствах. Дмитрий и сам почти не слезал с седла. Возвращаясь, пьяный от
усталости, узнавал, что без него из города бежали купцы, бежали бояре,


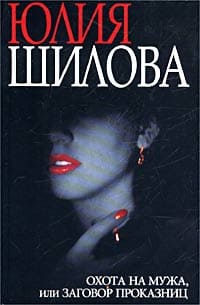

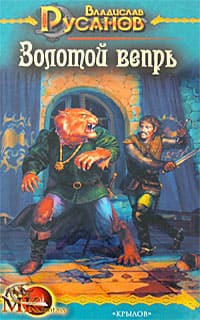
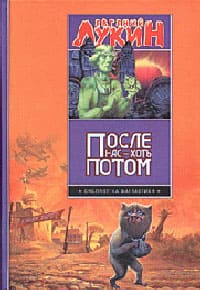
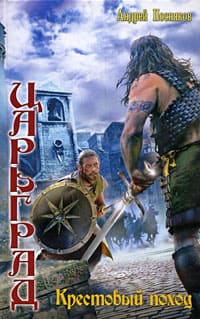 Посняков Андрей
Посняков Андрей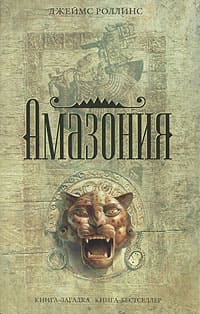 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс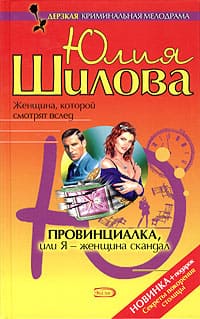 Шилова Юлия
Шилова Юлия Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк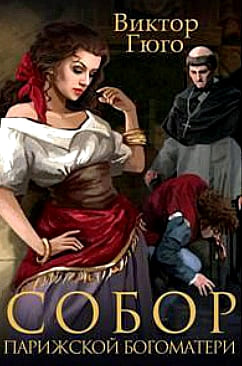 Гюго Виктор
Гюго Виктор Куликов Роман
Куликов Роман