взглядом вперялся в лица слуг, искал за личиною внешней заботливости
радость о его смерти. Он никому не верил и теперь, на ложе смерти своей!
теперь хлопочет о том же, дабы окрестить его в свою веру хотя бы перед
могилой. Хлопочет о детях, о Ягайле, который - да! - нравился ему, как
котенок-игрун, но удержит ли он власть в обширной стране?
устало отметил неподобье того, что княжеская дочь пришла чуть ли не вместе
с рабом, забравшим силу при дворе, сановным и властным, но все же рабом,
коему и боярский чин не прикрыл его подлого происхождения! Но уже и все
равно было. Пускай решают сами. Он взял Ягайлу за руки, долго смотрел,
вглядываясь, в это лицо. Теперь, почти уже с той стороны жизни, из дали
дальней, из которой никто еще не возвращался назад, увидел мелочность,
узрел злобность и самомнительность, узрел откровением, данным умирающему,
что этот мальчик будет игрушкой в чужих руках, в руках того же Войдылы, в
руках бояр, католических ксендзов, немцев, двоюродного брата Витовта,
будущей жены... И в эти руки вложил он судьбу земли, судьбы содеянного им!
К кому воззвать?! Даже и теперь, согласясь принять вторично святое
крещение, умирающий Ольгерд не верил в Бога.
привычное - любимого сына, верного раба, коего содеял он боярином,
заботливую жену...
былой властной силы.
воспаленном, измученном мозгу сложилось: <Неужели?!>) Но Кейстут ехал.
Скакал и уже сейчас подымался шагом на разгоряченном коне по долгой и
крутой, завивающейся вокруг холма дороге к замку.
ненавидит раба) и дочерь; Анна как собачка пошла за ним... (Потом вскоре
Кейстут ни за что не простит этого своему племяннику и за брак Войдылы с
дочерью Ольгерда постарается взыскать со сводника. Но Ольгерд уже не
узнает того.)
утратил власти своей Ольгерд. Женщина не должна вступать в разговоры
мужей.
Когда-то льняные, теперь белые волосы упали на лоб. Брат был тоже стар, но
вот все еще жилист и жив и даже не дышит тяжело, проскакав тридцать
русских верст в единый након!
Кейстут, отводя сухою жилистой дланью волосы со лба.
который стоит сейчас за дверью и слушает нашу с тобою беседу, Ольгерд!
престол должен теперь перейти к нему. (<Жемайтия вся станет за Кейстута,
ежели начнут выбирать!> - подумал он.)
последние силы и подымаясь на локтях. - Обещай во имя нашей с тобою
дружбы, во имя прожитых лет, во имя Перкунаса и священного огня, во имя
пролитой крови, во имя величия нашей земли, наконец! - почти выкрикнул
Ольгерд в упрямое лицо брата. - Обещай! Я хочу оставить сына, вот этого,
Ягайлу, хозяином всей земли. Обещай, что поможешь ему и не нарушишь моего
завещания!
зовущие, отчаянные, жалобные, бессильные глаза брата и думал. И на одной
чаше качающихся весов стоял чужой и чуждый ему сын тверянки Ульянии,
черноглазый Ягайло, а на другой - весь долгий жизненный путь, который они
прошли вместе, победы и поражения, битвы и плен. (И хотелось - но не
сказалось уже никогда - укорить Ольгерда в том, что прятался всю жизнь за
его, Кейстутовою, спиною...) И вот брат уходит и молит его, Кейстута...
Молит о помощи, потому что без его помощи власти Ягайле не удержать... И
тверянка, немолодая уже, постаревшая от частых родов женщина с отвердевшим
лицом, почти ровесница его Бируте, ждет немо и упрямо и будет биться за
сына, будет сейчас крестить перед смертью Ольгерда, вместо того чтобы дать
ему уйти к своим древним богам. (Кейстут никогда никого не укорял и не
преследовал за веру, но знал: его самого похоронят только литвином -
язычником.) И она ждет, и ждут воины, которые теперь, после Ольгерда,
хотят служить его сыну, а не брату, засевшему в Троках, в низком и тяжелом
замке, окруженном озерной водой.
знакомое и вдруг пугается, до конца, до предела осознав, что брат умирает,
уходит от него навсегда, весь, с его планами, быстрым умом, с его
нежданными и не всегда понятными решениями... Уходит. И уже не вернется.
Никогда! Он берет в свои ладони эту бессильную, холодеющую руку, медлит.
Говорит наконец:
плоти. - Пока я не стал христианином, поклянись нашей старою литовскою
клятвой, Кейстут!
придверника. Ульяния отворачивает лик, дабы не присутствовать при
идольском обряде. Ягайло жадно смотрит, вытягивая шею, черные глаза
блестят. Кейстут клянется, смутно понимая, что уступил не тому, чему
следовало. (<Почему не Андрей?> - запоздало проносится у него в голове.)
горячо, и старый размягченный Кейстут думает, что - ничего! Авось все и
обойдется! И с мальчиком этим, и даже с Войдылой, которого он отставит,
сошлет, не даст ему руководить делами страны...
напрасно он так прям и бесхитростен. Время таких, как он, прошло,
окончило, прокатило. Начинается новое, в котором ты бессилен, Кейстут, и в
котором ты уже проиграл все, даже свою жизнь!
голос души едва-едва брезжил ему), лишь смутно понимал, что совершил
что-то не то, что Кейстут уходит не только из покоя, уходит из жизни его,
Ольгердовой, и откуда-то еще, что, когда эта высокая сутулая спина
исчезнет за дверью, прервется нечто бесконечно важное, прервется и уже не
восстановится вновь... Он хотел крикнуть, остановить, вернуть, но только
захрипел, отчаянно глядя в спину единственного, как понял в этот
кратчайший миг, до конца преданного ему человека.
за ним служка с дарами в руках. Его кропят водой. Он начинает биться в
полузабытьи. Ульяния, успокаивая, держит его за руки. Лба касается
холодная капля мира. (<Зачем это все, зачем?! Он же все равно не верит, ни
во что не верит! Разве для нее, Ульянии...>) Читают какие-то молитвы,
поют. (<Все не надобно, все попусту!>) И когда уже окончено все, и даже
принято причастие, и священник ушел, он спрашивает, скривясь:
Он медлит, дышит тяжело и хрипло. (Вот, кажется, отпустило, вот опять...)
Две слезы выкатываются из тускнеющих глаз умирающего. Он уже не видит
Ягайлу, не видит, кто там взошел в покой. Лишь склоненное лицо Ульянии,
проясневшее, утратившее жесткость черт, явственно висит над ним,
недоступное, как луна в небе. И он тянется к ней, жаждая получить
последный поцелуй, а она не понимает, поправляет ему подушки и, в заботе о
бренном, упускает тот последний миг, когда глаза князя, холодея и голубея,
словно драгоценные камни, перестают видеть уже что-либо, и прерывается
дыхание, и челюсть безвольно отваливается вниз... Князя уже нет, а Ульяния
все хлопочет, оправляя ложе. Но вот она видит, понимает, вскрикивает,
падает на еще не остывшую грудь, а мышонок-княжич, пластаясь по камню
стены, не в силах оторваться от нее и приблизить к ложу, смотрит испуганно
во все глаза. Смотрит и ждет. Он боится, что грозный отец вот-вот снова
встанет... Не встанет! Вновь входит Войдыло, говорит громко:
долгой змеею втягивающаяся по кривой дороге в ворота замка, - люди идут на
последний погляд.
голова твоя болит?
и переставляя слова. Он погрозил Василию кулаком с зажатой в нем кистью.
на то время вообще переставали писать. Сейчас, пока усердные прихожанки
подметали и мыли выложенные цветною плиткою полы, прибирали свечные огарки
в высоких резных подсвечниках, готовя храм к вечерней службе, изографы
торопились продвинуть роспись восточной стены.
поручил писать цветы на рисованой завесе понизу стены, и тот старался
вовсю, выписывая узоры один другого чуднее. <Вот бы мне так!> - мечтал
Васька, коему живописная хитрость давалась плохо, хоть и пробовал, и мучил



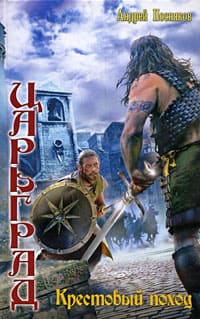


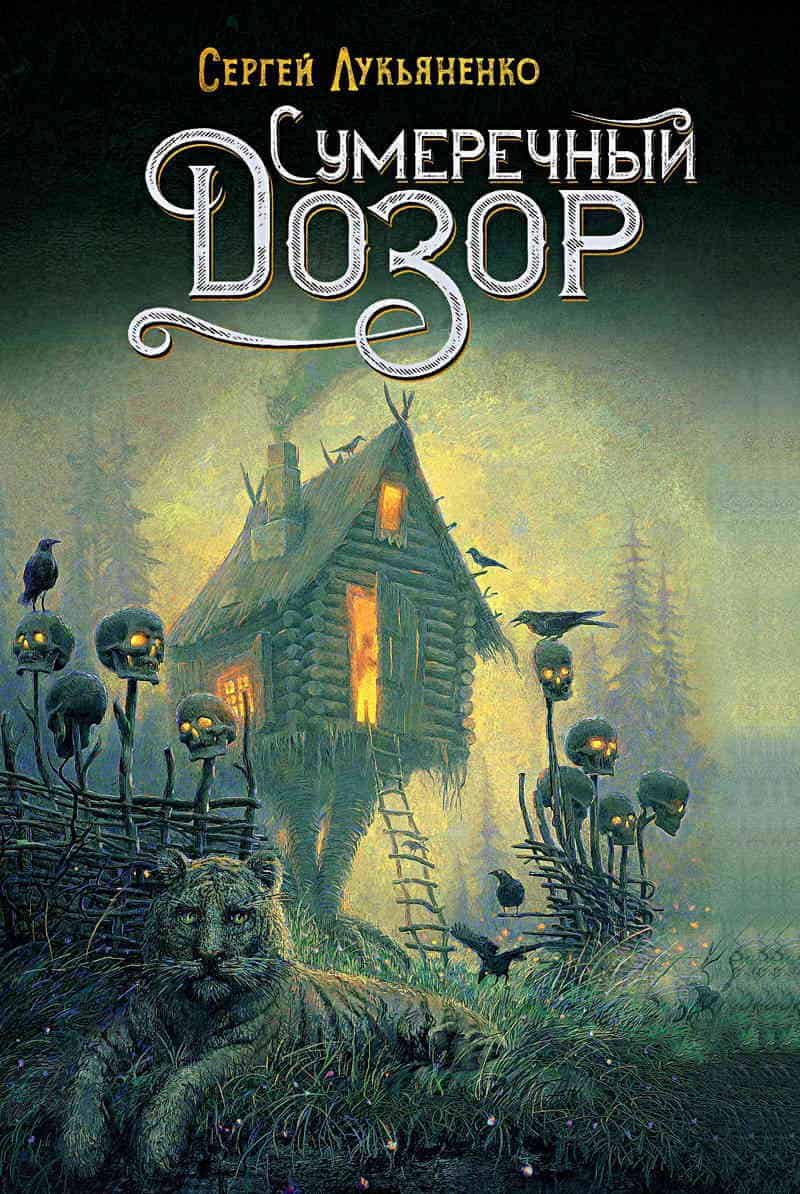 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Никитин Юрий
Никитин Юрий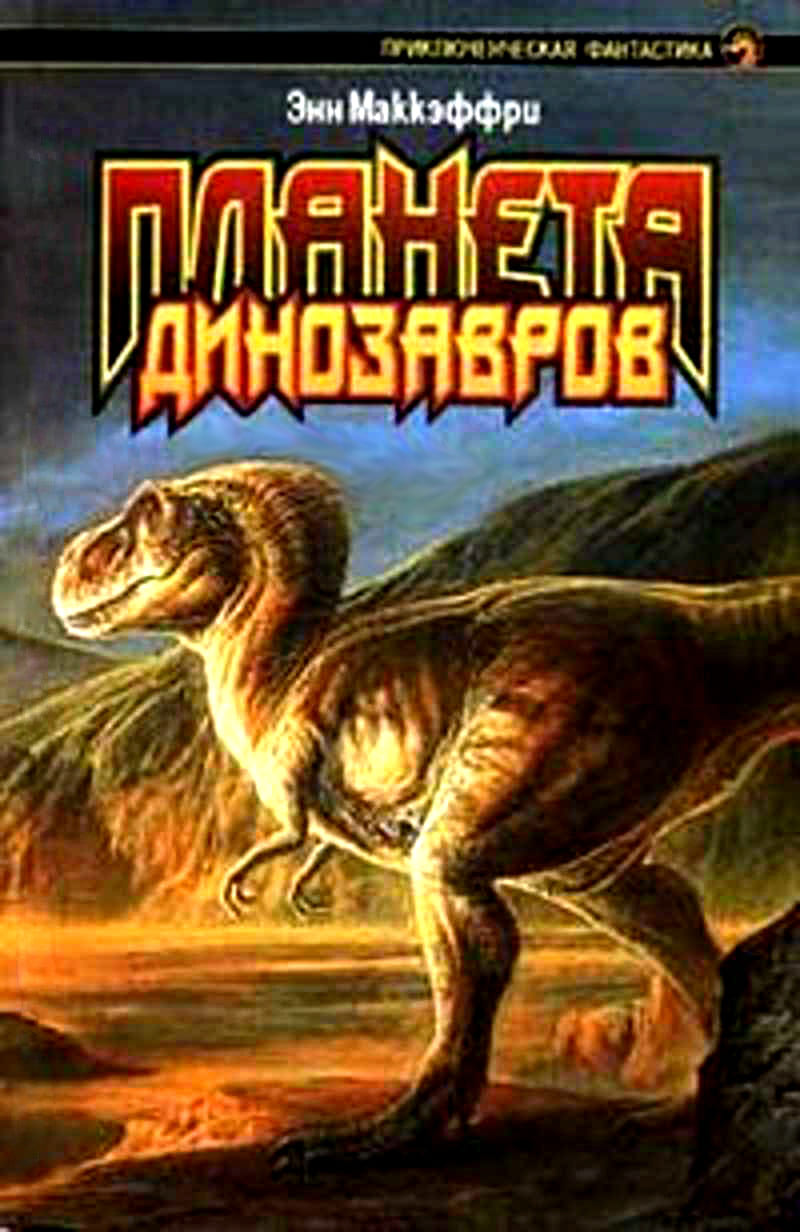 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн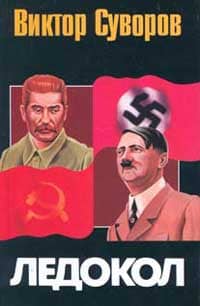 Суворов Виктор
Суворов Виктор Суворов Виктор
Суворов Виктор Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте