иначе: <Отец духовный...> Нет, и не это, а попросту: <Припадаю к стопам...
Сын твой заблудший и грешный припадает к стопам твоим...> Все было не то и
не так! Как-то слишком учительно и книжно! <Отче! Спаси мя! Погибаю!
Выведи из позора и тьмы! Не славы уже, ни жизни даже, хочу одной
справедливости... И не ее даже - покаяния жажду! Жажду умереть на родине
своея! Отче!..> (Не зная того, Иван почти дословно повторял теперь так и
не полученное им послание владыки Алексия.)
покойный отец так лежал в ногах у князя Ивана Иваныча, а он, молодой
неразумный отрок, стоял у притолоки, усмехаясь про себя. Отец был прав, о,
как прав был отец! А он тогда не понимал ничего, ничегошеньки! И что
родина зовет, не чуял того! Там надо драться и умирать там, ежели не в
силу борьба! И не заставишь чужих исполнить то, что надобно токмо своим. У
них, чужих, свои труды, своя жизнь, своя родина. Им надо не то, что тебе,
и тебя не поймут. А ежели и используют когда, то сугубо для своих целей.
Не к кому уже, не к кому взывать тут, в Орде! Минули времена Джанибековы!
Новое грядет, и в этом новом куется новая Русь. Лепше бы ему сразу смирить
гордыню, понять, переломить себя и сейчас стоять с ратью противу татар и
Литвы на полчище, а не тут уламывать Мамая повернуть вспять историю
родимой земли!
возможешь того - хотя бы прими и выслушай, исповедуй заблудшего сына
своего, ибо того просил и на том настаивал сам горний учитель наш, Отец
небесный!>
весны леденил лицо, съедая снег по угорам. Разбивая копытами корку наледи,
разрывая тяжелый снег, искали корм отощавшие кони. Там и сям валялись
неприбранные трупы павших овец. Все и вся ждало весны, и Иван не знал еще,
не знал и не ведал, что пишет мертвому. Ибо владыка Алексий уже второй
день как отошел к праотцам, чему предшествовали и за чем последовали на
Москве многие и тяжкие события, о чем и будет вперед наш рассказ.
оболочки, с разрушением составляющих ее элементов и угасанием тех чувств,
которые определялись и вызывались этой бренной и преходящей плотью,
распад, сопровождающийся высвобождением и, по-видимому, переходом в некое
новое, неизвестное нам состояние того, что бессмертно, - духа, а возможно,
и души (о чем не угасают споры уже целый ряд тысячелетий), смерть,
повторим, - неизбежный исход и конец для всякого живого, <тварного>
(сотворенного) существа. Для каждого мыслящего существа, проясним мы, ибо
ужас смерти понятен и доступен токмо людям. Мыслящее <я> в нас не может
примириться с гибелью плоти и чувств, плотью вызываемых (и тому такожде
много тысячелетий). И чем отдельнее, своеобычнее воспринимает себя
человек, чем более он мнит себя - именно себя - неповторимой личностью,
тем острее, тем грозней для него ощущение неизбывности своего конца.
написал перед смертью своей великий русский поэт и человек безусловно
верующий Гаврила Романович Державин.
днешнего бытия - только так! - прибавим мы, и прибавим с горечью. Ибо так
все-таки не должно быть. И ум, и дух человеческий обязаны воспарить над
тленом бытия, и даже над тленом личного своего бытия. Блаженны те, кому
дается это! А те, кому дается, это или <нищие духом>, или те самые
<простые люди>, для коих их жизнь - лишь продолжение жизни общей,
родителей, дедов, прадедов, столь же закономерно перетекающей в жизни
детей, внуков, правнуков, всех тех, кто придет после и будет пахать то же
поле, растить тот же хлеб, пасти тот же скот, так же ткать и прясть, так
же петь и сказывать сказки, так же крестить, венчать и хоронить ближних
своих, продолжая бесконечную нить общей жизни, которая идет, не кончаясь,
хотя все те люди, коих мы зрим окрест, исчезнут меньше чем через столетие
и заменятся новыми, такими же или чуть-чуть другими. Но пока <чуть-чуть> -
народ, язык жив, а когда <другими>, то умирает народ, уступая место другим
языкам и культурам. Это для <простых> (и очень непростых на деле!) людей.
Но не для тех, кто возвысился, кто почел себя избранником, кто, творя,
говорит <я>, а не <мы>. Для тех жизнь - мучение и смерть - тягостный ад. И
только на горних высотах духа - и всегда на высотах религиозных, не иных!
- возможно опять достижение того ясного и простого (и безмерного, и
глубокого) осознания закономерности жизни и смерти, зримого исчезновения и
духовного бессмертия нашего тварного существа...
лучший мир есть величайшее достижение нашего духа, к коему возможно и
надобно идти всю жизнь, от колыбели и до гроба, непрестанно <работая
Господу> и побарая в себе гордыню, злобу и похотный, <животный>, как
утверждали мы, эгоизм.
творчества, не равно и не одинаково разлиты и проявлены в людях, сущих с
нами и окрест нас. Недаром и соборная память человечества отмечает не
всех, но немногих: праведников, святых, созидателей, подвижников,
колебателей бытия (и даже творцов зла, посланных дьяволом, ибо в
постоянной борьбе с владыкою бездны протекает жизнь осиянных светом и
чающих воскресения). И даже так, что с уходом того или иного из творцов
жизни меняется сама жизнь, изгибает, рушит эпоха, меняется нечто в бытии
целого племени.
изменилось не вдруг и не враз, ибо продолжал жить игумен Сергий и многие
иные, вскормленные или поднятые Алексием к свершению подвига. И все же с
ним уходило время! Он не дожил двух лет до Куликова поля, но и, спросим,
должен ли был дожить? Он подготовил, создал, снарядил к плаванию величавый
корабль московской государственности, и он должен был умереть, уйти,
поставив последний знак на содеянном и произнеся вечные слова: <Содеянное
- хорошо!>
неведомого пути - это забота других, тех, кто принял оснащенный корабль и
встал в свой черед у кормила.
совершился за два года до того, зимою, в начале 1376 года, и за два года
этих произошло столь многое и со столь многими, что ум с трудом вмещает
толикое изобилие событий в столь малый срок, и опять напоминается нам, что
время отнюдь не равномерно, в нем есть свои омуты и быстрины, и порою оно
едва движется, а порою - стремительно бежит, и в том тоже заключены высший
смысл и тайна бытия, сокрытая от нашего смертного взора.
покаянное письмо мертвому, отступим мы на два года назад, и даже на пять
лет назад, ибо надобно сказать здесь о том, что совершалось в 1373 году от
Рождества Христова в Византии и от чего покатился, разматываясь, клубок
событий и дел, едва достигший своего завершения лишь два десятилетия
спустя описываемого нами времени.
деятель Византии?
Кантакузина, получивши наконец византийский престол?
вследствие чего государство утеряло всякую самостоятельную политику,
превратившись в игралище чужих страстей. Турки-османы и турки-сельджуки с
одной стороны, генуэзцы и венецианцы с другой, отчаянно соперничая друг с
другом, безраздельно хозяйничали при нем на землях умирающей империи.
не глубоко интересовался иными делами, кроме хорошеньких и красивых женщин
и вопроса - которую из них и как поймать в свою сеть>. Не постыдился он
даже отнять невесту у любимого сына и наследника своего Мануила...
Воистину: желающего погибнуть спасти нельзя.
коих исчерпывались наслаждением благами бытия, любы были и руководители
того же сорта, что и они сами. Кантакузин, как писали возмущенные
византийцы, <наводил турок на империю>. (И то, что это была ложь, и то,






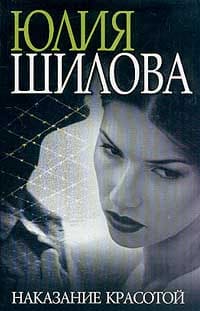 Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Курылев Олег
Курылев Олег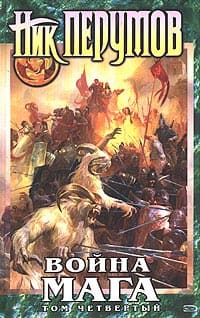 Перумов Ник
Перумов Ник Никитин Юрий
Никитин Юрий Пехов Алексей
Пехов Алексей