произнес над самым ухом: <Скорей!>
горлом, ноздрями, он задыхался, гас, сильное тело само уже дергалось в
последних неистовых судорогах, не желало умирать, глаза яростно и безумно
вылезли из орбит, все в кровавой паутине, так и застыли, отверстые. Те,
что душили, с трудом отлепляли теперь сведенные судорогой пальцы от
толстого могучего горла. Кого трясло, и кто-то выдохнул погодя: <Кажись,
все!>
клирик еще ползал, стонал под ногами. Убийцы заткнули ему рот подушкою,
дождали конца. Торопливо и неряшливо прибирали толстое, грузное тело,
вчетвером, толкаясь и теснясь, заволакивали на постель...
умер <внезапу> в виду города! Люди того времени выдерживали и не такое.
Привычно было ездить в санях, в возках, на телегах и верхом, по жаре и
морозу. Привычно было трястись в долгих многодневных путях, едучи из
Новгорода в Москву, из Нижнего в Киев, из Твери в Вильну, из какого-нибудь
Любутска на Волынь. Да и какие такие особые тяготы мог претерпеть в пути
этот ражий, полный сил и энергии муж, грядущий за властью и славой?!
как кажется, в насильственной гибели властного временщика: <яко задушиша
его>, <яко морскою водою умориша>. <Понеже и епископи вси, и архимандриты,
и игумены, и священници, и иноци, и вси бояре и людие не хотяху Митяя
видети в митрополитех, но един князь великий хотяше>. Знали! Ведали и все
на Москве, как совершилось дело. Уведал и князь. Но об этом - в свой
черед. А пока о том, что совершилось после.
Генуэзской республик. Одолела Венеция. Но бой этот ничего не изменил.
Война продолжалась. Не было можно выйти из города, писал позже Киприан:
<Море, убо латиною держимо, земля же и суша обладаема безбожными туркы>.
после морского сражения, не мог пристать к греческому берегу. Их не
трогали, убедясь, что на корабле мирное русское посольство, но и не
пропускали к причалам вечного города. Тело Митяя, <погадав>, вложили в
баркас (варку) и перевезли в Галату. Тут, в Галате, в генуэзских
владениях, его и похоронили.
ничего. А утром застал плохо прибранный труп и Пимена, роющегося в бумагах
покойного Митяя.
прежнего патриарха с престола. Новый, еще не избранный патриарх - взамен
Маркария, который посылал грамоты князю Дмитрию и Михаилу - Митяю на
проезд в Константинополь, - должен был теперь принять русское
посольство... С чем принять?
Константинополе? Не потому ли и был задушен Митяй, что погиб, свергнут и
заточен был его покровитель, патриарх Макарий? Или вспышка ярости, как
грозовой разряд, поразила Митяя, и лишь после того начали думать убийцы:
как быть?
мертвые, так и не закрытые глаза, на вываленный язык, соображая, что перед
ним следы преступления. Далеко не все в корабле ведали о том, что
произошло ночью! И потому тело Митяя поспешили прикрыть, поспешили
сплавить в Галату и предать земле.
утвержденных печатью грамот. Перед ним - протяни руку! - лежал
митрополичий престол.
Надобно было что-то решать. На архимандрита Мартина, пискнувшего было
что-то о Киприане, поглядели с таким недоумением, что бедный коломенский
владыка тут же смешался и умолк. Они сидели в трюме друг против друга на
грубых скамьях, на связках каната, на кулях, на бочонках с питьевой водой.
Было тесно и страшно, ибо над всеми ними витало совершенное преступление.
Кочевин-Олешинский был бледен и хмур. Пимен низил глаза, боялся поднять
жгучий взор. Угрюмые, замерли Коробьины, оба знали, что их считают
убийцами, хотя и тот, и другой преступление попросту проспали. Кажется,
Федор Шелохов первый изрек буднично и просто:
за тем!
косой крест, букву <хер>, означающую конец, <погреб> всему делу:
клирики сцепились друг с другом. Возникло сразу два имени: Иван Петровский
и Пимен. Только эти, третьего не дано!
архимандритом Переяславским, - обычай и власть. Ибо он - держатель
престола. Так полагал Юрий Василич Кочевин-Олешинский, к тому же
склонялись Невер Барбин и Степан Кловыня, к тому же склонялись оба толмача
- Василий Кустов и Буил, многие клирики. И восстала пря - до возгласов, до
руками и тростями махания, за груди и брады хватания и прочей неподоби, о
чем и писать соромно. Перетянули бояре, перетянули сила, навычай и власть.
За Пимена встал сам княжеский посол Юрий Василич, за Пимена, подумав и
погадав, встали в конце концов и Коробьины, уверенные в том, что престол и
князеву волю, как и волю покойного Алексия, надобно спасать, несмотря ни
на что: не киевлянам, не Литве же отдавать власть духовную! А так-то
показалось всего пристойнее: переяславский архимандрит - наместник Алексия
все же! А в ночном деле все они виноваты, все преступили закон, и всем не
отмыться будет до Страшного Суда!
ругань и треск, летевшие из трюма. В ярости злобы и страха русичи,
сцепившись, трясли друг друга за отвороты ферязей.
ходяще! - кричал высоким слогом Иван Петровский, вырываясь из лап Юрия
Василича. - Убийцы! Убийцы вы есть! Умориша... - Ему затыкали рот. В доме
повешенного не говорят о веревке.
в трюм матроса: <Оставь их!> - тяжело и тупо думал, что будет теперь ему
от совета республики за то, что не довез русича до места живым? <Да пусть
разбираются сами! Умер и умер!> - вымолвил он в сердцах. Теперь бы еще в
Венецию, в полон не угодить! Посадят в каменный мешок, под землю куда, в
сырь, ниже уреза воды - бррр! Да на цепь... У них там, где этот Мост
вздохов, так, кажется, зовут, где тюрьма ихняя, просто! Выкупай потом
семья да республика неудачливого капитана своего! Столько лет отлагал
дукат к дукату! Свою галеру чаял купить. Неуж даром все?! Да пропади они
пропадом с митрополитом ихним!
Петровский сидел, качаясь, на бочонке в порванной сряде, закрывши лицо
руками. Андрей Коробьин, вздыхая, размазывал кровь на разбитой скуле.
железа; примут круговую присягу не разглашать совершившегося. И, наконец,
извлекут дорогую князеву харатью, на которой напишут: <От великого князя
русского к царю и к патриарху. Послал есмь к вам Пимена. Поставьте ми его
в митрополиты. Того бо единого избрах на Руси, и паче того иного не
обретох!>
свое уже после Куликова поля. А потому воротимся в Москву, куда сейчас по
осенней, скользкой от дождя дороге идет путник с посохом и дорожной торбою
за плечами. Он обут, как и всегда в путях, в лапти, на нем грубый
крестьянский дорожный вотол. На голове монашеский куколь. Это Сергий, и
идет он в Москву, ко князю Дмитрию, вызванный своим племянником Федором.
Путь ему навычен и знаком. Он почему-то знает, что угроза от Митяя прошла,
миновала, да и сам Митяй миновал и не вернется назад. Он не задумывается
над этим, просто чует отвалившую от обители беду.
где в разрывах туч сейчас пробрызнет, пробрызнет и уйдет за леса последний
солнечный луч. Ясна дорога, и ясность небес отражается в замерших лужах.
Скоро мокрую землю высушит ветер, и настанет зима. Для того чтобы уже
сейчас основать монастырь на Стромыне, в пятидесяти верстах к
северо-востоку от Москвы, чтобы к первому декабря уже освятить церковь -
еще один монастырь, еще одна крепость православия в русской земле! -
надобно очень спешить. Князь пото и зовет радонежского игумена. Будет лес,
будут рабочие руки, будет молитва в море бушующего зла, будет добро на
земле. <И свет во тьме светит, и тьма его не объят!>
покой. Так и должно быть. Все в руце Господа! Дух борется с плотью и будет
вечно побеждать плоть. А плоть - вечно восставать противу: похотию,
чревоугодием, гордынею, похотением власти. И надобна опора духовному,
надобен монастырь! Хранилище книг и памяти, хранилище доброты и духовных,
к добру направленных сил. Возлюбите друг друга, ближние! Только в этом
спасение, и в этом - бессмертие ваше на земле!



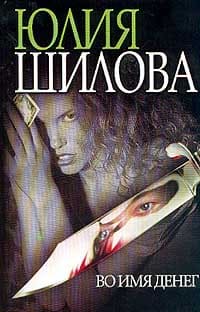
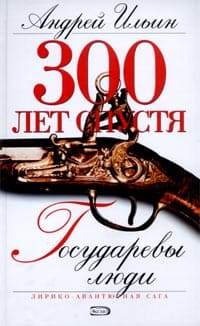

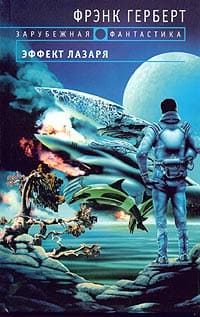 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк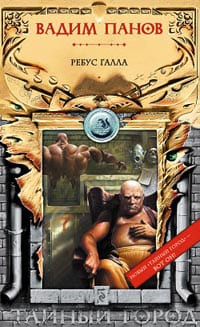 Панов Вадим
Панов Вадим Каменистый Артем
Каменистый Артем Флинт Эрик
Флинт Эрик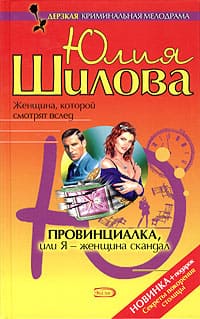 Шилова Юлия
Шилова Юлия Пехов Алексей
Пехов Алексей