Ивана.
вспоминая опять, что Семен погиб, защищая его, Ивана, на бою. И так мал, и
так хрупок кажет ему домашний уют, что Иван даже вздрагивает, не желая
сейчас ни мыслить, ни гадать об этом. Да! Он ведает, что жизнь -
непрестанное усилие, и пока это усилие совершается человеком, он и жив.
Да, он знает, что зло побеждаемо, а добро победоносно, но что для того
надобно все время, без престани, одолевать зло. Но пусть не каждый час!
Да, он согласен одолевать и одолевать зло, защищать страну, рубиться в
ратях, но дай, Господи, хотя миг, хоть мгновение отдыха на этом вечном
пути! Дай посидеть, вздохнуть, понять, что с тобою рядом - близкие тебе и
ближе их нет у тебя никого; дай тихого счастья на вечном скитальческом
пути... И - да! Я встану вновь, возьму меч и сяду на коня! Я вновь
сделаюсь княжьим и твоим, Господи, воином! И, может быть, когда-то, когда
угаснут силы и рука не занеможет держать копье, приду к тебе, Господи,
поступлю в монастырь, сокроюсь в пустыне, ибо все преходяще на земле: и
ближние твои прейдут, и земля прейдет, и сам ты станешь перстью вослед
обогнавшим тебя...
моленную горницу, ставит на колени рядом с собой, истово и горячо молится.
И Иван вослед матери повторяет слова молитвы. Короткое юношеское отчаяние,
охватившее было его, сменяется покоем, а в покое звучат и звучат далекие
звоны безвестной лесной обители. И уже девка-холопка засовывает любопытный
нос в горницу, зовет молодого господина: баня истоплена!
порты, шлепнуть по заду зардевшую девку, что принесла ему чистое платье,
застенчиво-жадно взглядывая на нагого мужика, и унырнуть в пар, в
разымчивую сладость бани, без которой на Руси ни быть, ни жить нельзя!
Чтобы до одури хлестать себя березовым веником, поддавать квасом, ныряя за
разом раз в нестерпимый жар полка, и, наконец, облившись на прощание
холодянкой, умиротворенно влезать в чистую льняную рубаху и исподники,
ощущая всем телом обновленную радость бытия...
глиняный жбан фряжского красного вина. Иван уписывал пироги, пил горячий
мясной, сдобренный травами укроп, запивая фряжским, и уже весело
взглядывал на сестру, на парня, коего господа посадили ради такого дня
вместе с собою за стол, на девку, что подавала перемены, вспыхивая каждый
раз, когда Иван скользом зацеплял ее взглядом и, тотчас отводя взор,
смотрел с почтительным обожанием на государыню-мать, которая царственно
управляла застольем. И хоть мало сотрапезующих, и когда-то еще, впереди,
будут званые гости в дому, но все равно мать изодела праздничную головку и
дорогой саян со скаными звончатыми пуговицами, у нее сейчас радость
великая, редкая! И не надобно омрачать ее страхом предвестий того,
неизбежного, как уже видится, времени, когда Мамай или кто из сынов
Ольгердовых вновь обрушит на Москву свои рати и ее сын, единая надежда,
ради коего живет на земле, пойдет творить роковую страду воинскую, отбивая
ворога, и тогда вновь наденет она темный монашеский наряд и будет ждать и
надеяться, и верить, и молить Господа о сохранении жизни ненаглядного чада
своего!
господскую говорю.
погинувшего на той самой Воже, незримо вступает в терем. Смолкают. А
уступать татарам нынче не хочет никто на Руси. Другие пришли времена!
них. И лишь последующие за ними скажут об этих, уже упокоившихся в земле,
что то были люди большой судьбы, люди Куликова поля, которое и само станет
знамением века много спустя и лет, и десятилетий даже, когда уже выпукло
выяснит, станет внятно изменение времени и век, их век, отойдет в прошлое,
в великое прошлое Московской Руси.
невозможно понять ничего.
даже элементарной критики. В самом деле, не должен был Мамай идти войною
на свой русский улус!
дальновидного Алексия, вдохновленный к тому же Ольгердовой смертью,
Дмитрий пер напролом, а после удачи под Стародубом и перехода на свою
сторону двоих Ольгердовичей уже и о том возмечтал, как бы посадить на
виленский стол своего ставленника Андрея Полоцкого... С Литвою восстала
пря, так ведь Ягайло-то в Куликовской битве и вовсе не участвовал! Хотя
кому как не Ягайле сам Бог велел выступить противу мятежных братьев!
был убит, казнен уже год назад. Приграничные сшибки и даже поход Бегича с
битвою на Воже все-таки не давали повода Мамаю бросать на Русь скопом все
силы своего улуса, затеивать грандиозный поход, кидая на неверные весы
воинской удачи свое будущее, тем паче в ту пору, когда из Заволжья
началось грозное движение Тохтамышевых ратей, и уже были потеряны Сарай и
Хаджитархан, и многие кочевья Мамаевы попали под власть Синей Орды. Туда
надобно было бросить полки! Немедленно помириться с Дмитрием! Призвать на
помощь себе дружины урусутов! Не хотела, да и не могла еще тогдашняя,
только-только поднявшаяся Москва спорить с Ордой! Не могли русичи
совершать походов в Дешт-и-Кипчак, Дикое поле, страну незнаемую, и еще
долго не могли! Целые столетия!
причиною, так спросим опять: кому же, в конце концов, был надобен этот
поход?!
прежде всего кафинскому консулу. Нужна была генуэзским фрягам,
вознамерившим сокрушить Русь силами Орды. Не подивим, ибо, отвечая на
сходный вопрос: кому нужна была интервенция Советской России в Афганистане
- тоже неверно было бы говорить о каких-то вековых претензиях, о
стремлении России к южным морям, о торговой и иной экспансии. Ответ
находим грубее и проще, а именно: ежели и были тут чьи интересы, то не
России, а Израиля, ежели и обмысливал кто сей <поход на Восток>, то всего
три-четыре вполне безответственных деятеля из ближайшего брежневского
окружения, неграмотных настолько, что и не ожидали они какого-либо
серьезного сопротивления в Афганистане, а о вековых интересах России и
вовсе не ведали ничего. Так вот! И часто так! И в истории так бывало не
раз и не два - многажды!
одной стороны - и маленький итальянский город с другой? Стоп! <Вся Россия>
умещалась покудова почти целиком в Волго-Окском междуречье, а <маленький
итальянский город> был в ту пору одним из самых больших городов Европы,
уступая одному Парижу. Флот республики не знал себе соперников (помимо
Венеции). Черное море было в руках генуэзских купцов и пиратов. Гибнущая
Византия оказалась совершенно бессильною перед экспансией <высочайшей
республики святого Георгия>, как гордо называли себя генуэзцы. Да, Генуя
не оставила нам в отличие от Венеции или Флоренции ни знаменитых зодчих,
ни ваятелей, ни живописцев, ни поэтов. Вся неистовая сила республики ушла
в торговую и военную предприимчивость. Генуэзские мореходы, как сказано,
не знали себе равных, генуэзские арбалетчики были лучшими в Европе. Генуя
оставила миру крепости и счетные книги с перечислением многоразличных
товаров - тканей, сукон, оружия, пряностей и рабов, - с перечнем цен и
прибылей, кстати, не таких уж и фантастических, как кажется нам теперь.
Ибо, очистив оружие от крови и отпихнув ногою труп врага, генуэзский
воин-пират садился не за Тита Ливия и не за сочинение стихов, а за счетную
книгу, аккуратно итожа на разграфленных страницах цену крови и мужества,
исчисляемую в золотых флоринах, греческих иперперах или венецианских
дукатах разнообразного достоинства и чеканки. Сочинял не канцоны, а
заемные письма и писал векселя, принимаемые к расчету банкирскими домами
всей Европы и Ближнего Востока.
Франческо Гаттилусио. Не потребовалось ни вмешательства дожа Генуи, ни
совокупных усилий четырех виднейших семейств (по-русски сказать, <великих>
или <вятших> бояр): Дориа, Фиески, Гримальди и Спинола, которые в
постоянной борьбе с черным народом и с <нобилями> (опять же,
по-новогородски, <житьими> - Джустиниани, Негро, Джентилле, Мари, Леркари,
Чибо, Паллавичино, Чентурионе, Грилло, Вивальди и др., - всего двадцать
четыре благородные фамилии) осуществляли в республике право и власть,
ставили дожей, вмешивались в дела папского престола (в чем особенно
подвизались Фиески), правили всей Лигурией и Корсикой, ссужали деньгами
императоров, герцогов и королей, началовали армиями и флотом республики
(целую плеяду замечательных флотоводцев выдвинул род Дориа) и при этом
вели постоянную упорную борьбу с республикой святого Марка. Причем как раз






 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Дальский Алекс
Дальский Алекс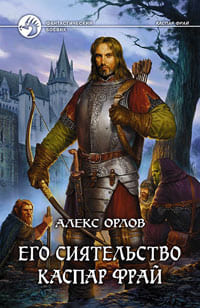 Орлов Алекс
Орлов Алекс Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия