к ихнему хану. Татары, перемолвивши друг с другом и поспорив, - был миг,
когда показалось, что просто убьют, - таки решили поверить беглецу. Тут же
двое привычно и быстро разняли колодку у него на шее, и Васка, впервые
почти за год жизни оказавшись без рабского ожерелья, обеими руками
схватился за щеки (голова отвычно закачалась, нетвердо держась на плечах)
и так стоял, боясь уронить голову или свихнуть шею, глядя сумасшедшими
глазами на своих спасителей, новых ли господ - все равно! Ему дали
пожевать кусок черствой лепешки, налили кумысу в деревянную чашку, помогли
забраться на поводного коня... Уже к вечеру Васка сидел в шатре перед
огланом и сказывал, вдохновенно привирая, что Мамай сряжается в поход
противу Руси, что он хотел бежать к Тохтамышу, но был схвачен и закован в
колодку. Татарин глядел на него исподлобья, кивал головою. Про Мамаев
поход он уже знал, а осмотревшие шею пленника донесли ему, что колодку раб
носит на шее, судя по натертым мозолям, не менее года,
голову и домолвил: - Воином хочу быть! Мамая бить хочу!
который и на коне-то чуть держится - чтобы довезти, привязывали к седлу...
Добро, что не продадут! Впрочем, за такого, каков он сейчас, вряд ли какой
купец захотел бы дать сходную цену. Стрелы Васкины, однако, оглан одобрил,
и беглый русич, уже не помышляя о побеге, вновь начал мастерить разные
виды стрел: боевые и охотничьи, на дичь, на птицу и рыбу - северги,
срезни, томарки, тахтуи, с костяными, медными и железными коваными
наконечниками. Низил глаза, угодливо принимал редкие похвалы своего оглана
и молча внимал разговорам и рассказам ратников, подчас не обнаруживая
своего знания татарского языка.
отступлении Мамая, а он делал стрелы, жался к огню костра, пил кумыс и
мясную похлебку, постепенно приходя в себя, и уже перемолвил с молоденькою
татаркой из самых простых, что незатейливо предложила себя ему в жены. И,
может, так бы и сталось ему навек остаться в Орде, привыкал уже и к
степным стремительным закатам, и к запахам костра, конского пота и полыни,
к кумысу и обугленной над огнем баранине, и счастье виделось в таком же
войлочном шатре, с преданною и работящей татаркой-женою, не затей Тохтамыш
похода на Мамая и не надумай оглан посадить раба Васку на коня и взять в
поход вместе с другими воинами.
Медленно, съедая степную траву, выбивая копытами корни трав, побрели к
северу бесчисленные стада. В пыльной мге, так и не оседавшей над
бесчисленным войском, рысили всадники в мохнатых остроконечных шапках.
Тяжело переставляя ноги в дорожных поршнях и сапогах, шла покрытая пылью,
сложив на телеги долгие копья, аркебузы и арбалеты с пучками железных
стрел, генуэзская пехота. Скрипели возы со снедью, справой, тяжелыми
доспехами и огненным зельем. Как славно виделся этот поход там, в Кафе, у
синего капризного Греческого моря, под радостным южным солнцем, в тени
трудно выращенных на скалистом берегу Крыма олив, в зарослях каштана,
ореха, яблоневых садов, черешен и винограда! И как жесток и далек казался
уже теперь этот изматывающе долгий поход на Москву привыкшим к шатким
палубам галер и боевых каракк генуэзским пиратам!
- крымская еврейская конница. В мохнатых высоких папахах, прикрываясь
бурками от жгучих солнечных лучей, ехали черкесы, гордо отвечая на
презрительные взгляды татарских богатуров, уверенных и доднесь, что
десятка татар достаточно, чтобы разогнать сотню этих горных грабителей.
Армяне, везущие в тороках чешуйчатые доспехи, касоги, ясы, буртасы,
караимы - каждый язык в своей родовой сряде, со своим оружием - ехали,
шли, брели, тряслись на телегах, бесконечною пропыленною саранчою наползая
на редкие, полуиссохшие острова леса, вытаптывая рощи, выпивая до дна
неглубокие степные ручьи. Ночами вся степь, насколько хватало глаз,
начинала мерцать кострами, и казалось тогда, что само небо пролилось на
землю потоками своих бесчисленных звезд.
этого похода, указывали на Тохтамыша, осильневшего в левобережье Итиля, на
прежнюю дружбу с Москвою. Быть может, согласись Дмитрий на старую, <как
при Чанибеке-царе>, дань, и Мамай еще от верховьев Воронежа повернул бы
назад. И еще сказать: не будь у Мамая фряжских советников!
Мамаева. Долгою ночью на привалах возлежащему на подушках повелителю
шептали, угодливо склоняясь перед ним, о соболях, янтаре, о серебряных
сокровищах страны руссов, о цветущих, словно розы, бело-румяных славянских
красавицах севера, и казалось тогда: только надобно досягнуть, дойти, а
там вспыхнут кострами деревни, замычит угоняемый скот, заголосят, застонут
женки упрямой русской страны, склонят головы князья, на коленях приползут
к его шатру с бесчисленными дарами, чашами речного розового жемчуга,
кольчатыми бронями русской работы, паволоками и камками, лунским сукном и
скарлатом. И будет он вторым Бату-ханом, истинным повелителем Вселенной, и
тогда - тогда лишь! - возможно станет забыть гибель тысячи Сарай-ака и
позорный разгром на Воже... И уже после того, досыти удоволив русской
добычей жадных вельмож и огланов своих, обрушит он победоносные тумены на
далекого Тохтамыша, и будет одна степь, одна Орда, и он - во главе! И все
владыки окрестных стран склонят головы к подножию его золотого трона!
огнем сверкала среди россыпей небесной парчи красная планета войны.
толкуя сложные знаки небесной цифири, находили в сложении звезд символ
<одоления>; угодливо склоняясь в поклонах, выползали вон из шатра. На
походном жестком ложе гаремные жены спешили насытить своими ласками
повелителя и тоже, заглядывая опасливо в очи Мамаю, шептали слова
восхищения и преклонения перед владыкою мира. Сколь мал человек, судьбу
которого пасут далекие небесные светила! Сколь тщеславен и жалок в
самоослеплении своем!
ступая, вышел под ночные звезды, оглядел, любуя взором, бесчисленную
россыпь костров. Он стоял, вдыхая запахи конского пота, полыни и пыли, и
яростная дрожь сердца утихала, полнилась сытою радостью победителя. Горели
костры. Он вел бесчисленную рать на Русь. Много большую, чем рать Батыя!
Он должен победить! Об этом хором толкуют ему и угодливые астрологи, и
хитрые фряги. Что будет после победы, Мамай понимал смутно. Он утолит
ярость сердца, сядет на узорные подушки и будет, маслено щурясь, взирать
на бессильного Дмитрия у ног своих, как когда-то взирал на Ивана
Вельямина, казненного на Москве (и казнь эту он припомнит Дмитрию!). И
обложит Русь тяжелою данью. Как встарь! И... что будет далее, Мамай
понимал плохо. Горели костры. Несло едким кизячным дымом и запахом
варящейся баранины. Он был доволен. Доволен? Да, доволен! Он был
победителем и вел свои тумены на Русь!
тесовому потолку, визжал с восторженным испугом. Падая вниз, хватал брата
за шею и тотчас радостно требовал: <Ищо!>
без удовольствия следил за вознею сыновей. Нравилось, что старшие не
завидуют этому его <московскому> малышу, великокняжескому племяннику,
единой надежде Боброка, как прояснело уже теперь, утвердить свой род в
рядах высшей московской господы. Не был, не стал волынский князь своим на
Москве! И сам порою не мог он понять: что мешало тому? Княжеское звание?
Ратный талан? Происхождение от Гедимина, наконец? Но и беглых
Ольгердовичей чествовали тут много сердечнее, чем его, принятого в ряды
синклита, совершившего многие одоления на враги, сокрушившего Булгар,
разгромившего под Скорнишевом самого Олега... Он не ведал, не видел, что
его строгий навычай, стать, даже гордый склад лица, привычные ему самому и
потому незамечаемые, отпугивали от него сотоварищей по Думе княжой.
Боброка уважали, ему завидовали, но любили мало. Добро хоть в своей семье
лад! Невесть, что бы и повелось, кабы старшие огорчились на этого
приемного брата своего! Но нет, играют! Таскают малыша на плечах, садят
верхом, не ревнуют, не завидуют младшему. Он отвел взгляд и снова
углубился в грамоту. Брянский князь должен, обязан собрать как можно
больше воев! С мгновенною горечью подумалось, что даже эту его сущую
работу, как и работу всех прочих бояр, потомки припишут одному Дмитрию.
Суздальских володетелей великий князь взял на себя, и вот результат! Сами
не идут, а шлют полки... Сколько? И каких воев? И почему не идут сами?
Испугались татар? Не опомнились от погрома Нижнего? Или мыслят опять
изменить Москве? Не только от Бориса, но и от его племянников, Семена с
Кирдяпой, всего мочно ожидать! Чего Боброк не предполагал, это нежданной
прыти заволжских князей: белозерцы пришли едва ли не всем родом! Хоть их и
татары не досягнут, за лесами-то! Могли бы и отсидеться... Все-таки жаль,
что Олег в которе с Дмитрием. Он, Боброк, по приказу великого князя тоже
подливал масла в этот огонь! И вот моленное: едва согласили великого князя
рязанского на мир, чтобы только не помогал Мамаю! И уговорить Олега
помогли опять же Вельяминовы, а не Акинфичи... Боброк сердито вздернул
бровь. Поймав наконец надобные к заключению грамоты слова, приписал их,





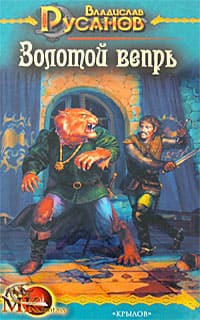
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Свержин Владимир
Свержин Владимир Пехов Алексей
Пехов Алексей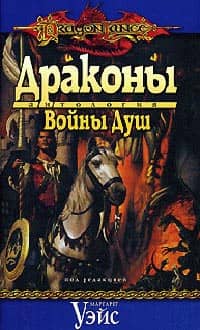 Грабб Джеф
Грабб Джеф Пехов Алексей
Пехов Алексей