как дивились черноте южной ночи... И не останови - куда бы? - может, и до
Индии дальней дошли бы, воюя, новгородские лихие ушкуйники! И вот теперь
сюда, в главный юрт, доскакала, доправилась дурно пахнущая снулая голова,
мертвая паче смерти самой! Прокоп!
улыбнулся, умиляясь и тому, что Прокоп, разгромивший едва не все ордынские
грады, убит, а также и более того тому, что голову новогородца доставили
ему, Мамаю. Значит, Хаджи-Тархан и тамошний князь - в его воле...
татары чавкали, словно бы вид тухлой человечьей головы на столе для них -
обыденка. А может и вправду обыденка?!
ли за ним следом посланцы Мамаевы, чтобы и его голову подарить в кожаном
мешке повелителю! Заставил себя усмехнуть и прямее всесть в седло. Все же
этот татарин умеет нагнать страху, умеет! Видимо, этим и держит власть. А
подумав о власти, вновь и опять вздохнул. У него самого власти, истинной,
непоказной, тут, в Орде, и вовсе не было.
надрывного ужаса, как по первости. Да и парню пошел семнадцатый - мужик,
муж, воин! Так уж и понималось, что Никитин сын должен пойти стопами отца
и не кули с рожью считать, а на ратях добывать себе зажиток и славу. Да и
поход на Булгары, как толковали, сулил в случае удачи корысть немалую.
Мамай таки обложил дикою данью русских торговых гостей в поволжских
городах, и теперь соединенные нижегородско-московские силы шли
восстанавливать добытые прежнею кровью торговые права русичей.
дворы, села, деревни, вымолы, борти, луга, охотничьи угодья и тони Ивана
Васильича Вельяминова, - князь Дмитрий забрал под себя. Наталье Никитичне
теперь уже не стало воли останавливаться в гостеприимных высоких
вельяминовских хоромах на Москве, встречать все тех же старых слуг,
помнивших ее еще юною вдовою... Хоромы покойного Никиты в Занеглименье
сгорели тоже во время нашествия Ольгердова, и ретивый слобожанин захватил
ихнее родовое погорелое место под огород. Оставалась та крохотная избенка
на Подоле, чудом уцелевшая при последнем пожаре, что когда-то подарил
Наталье и Никите Федорову на свадьбу Василь Васильич. И пока шли
суды-пересуды (отступаться родового двора Никиты Наталья не думала), вдова
с сыном и девкою поселились тут, в нищете и забросе.
осевшую набок хороминку, пока затягивали окошко мутным пузырем и Наталья
звонко покрикивала на девку, гоняла возчиков (в Москву-то явились с
рождественским кормом владычным, и Наталья разрывалась меж родовой
деревенькою коломенской и нужной и трудною службой митрополичья данщика -
а и забросить никак: сын растет, ему на справу одну, на сряду да на коня,
чтобы был не хуже иных детей боярских, много нать), пока хлопотала властно
и строго, все было ничего... Но вот и дом починен по первости, и баня
истоплена, и схожено в первый жар, и мужики, тесно обсевшие стол, отъели,
отпили и, шумно благодаря, потянули, натягивая рукавицы и зипуны, на
порожних санях вон из двора, и тяжелый дух ихний, мужичий, вытянула
топящаяся печь, и Наталья, отослав девку с грамотою к Тимофею Вельяминову,
села, пригорбясь, на постелю, ту самую, врубленную в стену, неизносимую,
потемневшую от времени до цвета темного янтаря, на которой, да, на которой
и сотворилась ихняя первая ночь с Никитой, и, уронив жилистые сухие руки в
колени, заплакала скупыми, сдержанными слезами...
брачной ночи... И как стал уже тогда родным, своим до боли прежний грубый
ратник, хвастун и задира Никита Федоров... Никиша, Никишенька... Ох!
Господи, дай ему в мире том! Все ить искупил! И как умирал-то... И
уезжал-то как... Доднесь не простила себе, что не поняла, не почуяла, как
подошел к ней, сонной, что напоследях, что во последний раз, во
останешный... - Ники-и-и-тушка!
морщин тонкого иконописного лица глазами (ее очами любовался когда-то,
говорил: первое, что кинулось взору, - очи ее), теперешними, почти
жесткими, слезы платом тафтяным утерев, глянула в очи Богоматери
Одигитрии, положила крест, поклонив иконе, скрепилась, вышла.
пощипывая пух первой жданной бороды, и хмурил молодое, голодное,
крупноносое, крупноглазое лицо:
негде!
поставить негде!
что содеял с тем холопом тверским, как отпустил: открылся ли перед
дорогою? За тот поступок, за гордую застенчивую доброту прощала и грубость
нынешнюю, и многое иное, что по юности, по неразумию и порыву себе
дозволял мужающий Никитин сын. И виделось: норовом, повадою - в отца, в
Никиту. Ныне и того боле стал походить на родителя. Любуя взором,
оглядела, потянулась было поправить шапку на буйных волосах, не посмела -
огрубит, после и сам каяти будет, и ей докука.
помочь! А там, по весне, лесу навезем и мужиков, хоть коломенских - пущай
на отцовом месте хоромы сложат!
зазорно вроде бы... нашему роду... Може, владыке в ноги пасть? - И
покраснел, сбрусвянел, густо покраснел.
вихры:
срубим когда-нито, сын! Може, и с похода с добром воротишь...
рассердить бы дите, прибавила:
перевела речь:
был! Может, и доложит владыке? Или сам... - недоговорила. Сын, прояснев
взором, глянул на нее, по-детски совсем вопросил:
и тебе волен помочь!
любуя. Помыслила: <Езжай, сын! Просить о чем - оно бывает труднее, чем в
бою, на рати, с саблей в руке! А и без того некак!>
сбитая на лоб с алым верхом щегольская шапка, все стояла и смотрела с
крыльца... Словно бы Никиту любовала напоследях... За живыми и мертвый
жив: в детях, внуках, правнуках... Ники-и-и-тушка! И Ваняту-то иной раз,
обинуясь, Никишей назовет! Иван только глянет исподлобья, слова не скажет.
Отец и ему примером и гордостью доднесь. Да и сколько сказывала! Об ином,
далеком, даже о той небылой княжне-тверянке, что будто бы любила прадеда,
подарив ему те, Никитины, невесомые золотые сережки. Дочери ли на свадьбу
подарить (четырнадцать, пора и жениха искать!) либо Ивану уж для его
суженой? Подумала с ревностью: отведет, отманит от матери! А женить все
одно нать. Ишь, ни единой девки не пропустит взором и по ночам неспокойно
спит. Пора женить, а все жаль делить его сердце с той, неведомой, которая
ничего не будет знать, ни помнить - ни суматошного бегства ночного, ни
трудных лет, ни того, как пеленала, купала, пестовала... А придет и
возьмет, и она уж станет посторонь им обоим! Понурилась вновь, похмурила
чело, покривила губы.
прерываясь. Расстроилась Москва! Растет! И зимой, вишь, колготят, рубят
что-то в Кремнике за белою (прямее сказать - серою под шапками белого
снега) каменной крепостною стеной. Век останавливали там, в Кремнике! А
вот: Иван Васильич в Орде, в бегах, а терем вроде Федор Кошка али Андрей
Иваныч со Свиблом купляют - Акинфичи стали в силе теперь! Наделал делов
Иван Вельяминов бегством своим! Теперь и не воротит поди! - с тревогою
помыслилось. Все не могла понять, осознать, как это на Москве нет уже
тысяцкого и нет его гордого терема, разошлись по родичам старые слуги
Василь Васильича, истаяли, исшаяли прежние знакомства и дружества... Ныне
хоть и не приезжай на Москву! Сына нынче сама упросила в поход. Ходила на
поклон к воеводе Боброку. Иван и не ведал о том, не то бы надулся как
индюк, поди и делов каких неподобных натворил...
поп Митяй заправляет - громогласный, важный, паче князя самого, неведомый
ей, Наталье, и потому до ужаса чужой...
воротилась в продувную, кое-как вытопленную хоромину. Прав сын! Надобно
выдирать свое!
крыш и садов; стонущие удары харалуга с литейного двора княжеского; и
синие, почти уже весенние небеса; и далекое Замоскворечье, устланное
белым, уставленное теремами и стогами сена, в лентах дорог, уводящих на


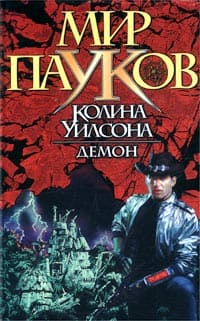

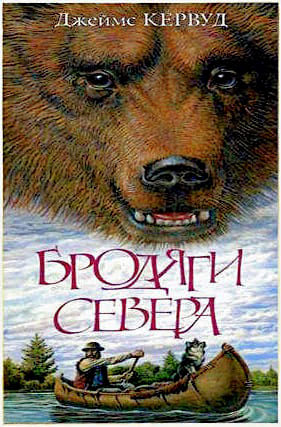

 Адамов Григорий
Адамов Григорий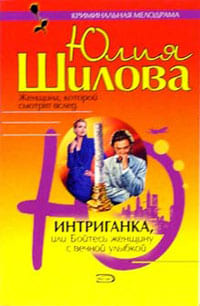 Шилова Юлия
Шилова Юлия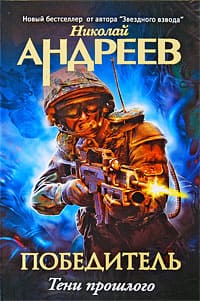 Андреев Николай
Андреев Николай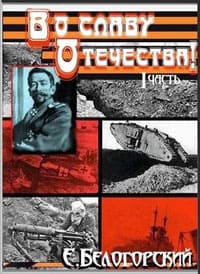 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений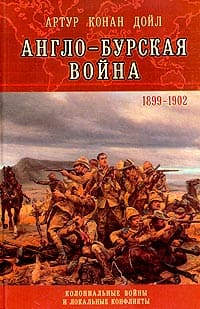 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна