приходило ему расставаться раз за разом, одаривая тех и других, а то и
продавая некая многоценная, дабы удоволить клир и челядь, не получающих
уже давно пристойного содержания... Из Вильны ему не слали ничего, из
Владимира Волынского и Луцка - тоже, а разоренный, все более пустеющий
Киев не мог обеспечить пристойным содержанием двор митрополита русского.
Киприан сомневался теперь, мог ли бы он так красиво разодеть спутников
своих, как он это сделал в прежний, стыдный наезд на Москву?
ожидания. Следя, как въезжает во двор, визжа полозьями по снегу, дорожный
возок, он ожидал явленья каких-нибудь могуче-рослых, чреватых иерархов,
подобных медведям, разодетым в золото, но ошибся и на этот раз. Меж тем
как всадники на заиндевелых конях, подрагивая копьями, заполняли двор, из
возка выскочил сухощавый, невысокого роста духовный (принятый им сперва за
секретаря) и быстро, подрагивая, как бы подскакивая на ходу, пошел по
расстеленной ряднине прямо к крыльцу, взглядывая издали на Киприана и
улыбаясь. Клирошане поспешали следом.
сумел узнать игумена Федора, с коим виделся много лет назад, и то мельком,
пока тот не представился ему.
болгарина. Дал ему время распорядить приемом нежданно многолюдных гостей.
(Всех надо было чем-то кормить, где-то располагать на ночлег, куда-то
ставить коней... <Овса-то, овса одного, да и ячменя, сколько уйдет!> -
тихо ужаснул Киприан, приученный к скаредности несчастьями своей жизни...)
Тут-то Киприан уведал, наконец, доподлинно, что его безобманно зовут на
митрополичий престол и на все те села и волости, которые имел покойный
Алексий. Это было даже не счастье, спасение!
вглядываясь в собеседника. Федор узрел, понял, что жизнь зело не пощадила
Киприана, а разглядев драгую панагию у того на груди, даже и улыбнулся
слегка, понявши сразу, что то - знак богатства от нищеты.
с горем убедился вскоре, что пред ним муж глубоких и обширных знаний, а
наипаче - способный мыслить вольно и широко. Окончательно убил его Федор,
довольно сносно для русича заговоривши по-гречески.
западных славянских землях, в чем они оба оказались отменно согласны,
Киприан, наконец, усвоил, что зрит пред собою мужа единомысленного себе, и
понял такожде, почто рекомые старцы стояли за его, Киприаново, присутствие
на Москве. Допрежь все в ум не входило, что тут, во владимирском лесном
краю, обитают люди, мыслящие о духовном и о судьбах русской земли, отметая
прочь всякое земное и о себе <собинное> попечение. В Византии, в секретах
патриархии, давно уже не стало таких! А удалившиеся от мира схимники
спасали себя, но не мыслили уже спасти страну, гибнущую в турецком
обстоянии, и не звали к одолению на враги.
здесь, в разговоре этом, получал свое, едва ли не полное, объяснение.
Прости, Господи, преосвященному митрополиту Киприану его невинную ложь,
когда он занес в летописные харатьи, что будто бы сам встречал на Москве и
благословлял князя Дмитрия, грядуща с победоносною ратью с Куликова поля!
Прости, Господи, тем паче, что не враз и не вдруг достался ему вожделенный
московский владычный престол!
Москву. И не то что без него не могли доделать дел деревенских да собрать
корм, а хотелось самой, одной, обмыслить путем сущее, одной и поездить по
Москве, воскрешая старые приятельства и родственные памяти. Невесту сыну
Наталья задумала найти твердо, как и оженить Ивана еще до Великого поста.
соседи-вотчинники и в Селецкой волости и вокруг Острового были опрошены,
объезжены. Двух невест сама даже и казала Ивану, но по безразличным
взглядам сына догадала, что ни резвость одной, ни шепетная проходочка
другой не произвели на него впечатления. (Тогда еще не ведала, впрочем,
что сын уже увлекся холопкою.)
родни. Был брак, была она вдовою. Покойный уже теперь дядя Михайло
Лексаныч так и не отдал ей родового, причитающегося ей по праву (пусть
выморочного после смерти супруга, пусть и запустевшего во время великого
мора!) села под Коломною. Баял, что населил своими людьми... А земля? Да
Бог с нею, с родней дядиной! Однако обращаться к ним с любою бедою,
труднотою ли не хотела с тех пор Наталья, даже сказать заставить себя не
могла. Своими были для нее Вельяминовы, а потому и ткнулась она по первому
же приезду к вдове Василья Васильича, Марье Михайловне.
узнавала, плохо слушала. Теперь и та первая боль, казнь Ивана, выплыла
наружу. У нее тряслись руки: подвигая Наталье чашу горячего душистого
сбитня, облила браную дорогую скатерть и не заметила того сама. Раза
четыре в разговоре принималась плакать, и уж не о сыне говорить приходило
тут, не о поисках невесты и не о женитьбе предполагаемой, а утешать старую
госпожу. Та уже путалась в родне, не вдруг называла внуков и внучек, все
сетовала, что Ивановы сын с внуками в Твери и путь на Москву им заказан, а
от Микулы у нее и внучка не осталось... Когда обнялись на прощание,
Наталья вздрогнула, ощутив, как похудела, истоньшала плотью Мария
Михайловна, и пахло от нее не совсем хорошо, что вызвало в Наталье
мгновенный гнев на холопок, не озаботивших себя сводить в баню свою
госпожу. Прежняя, покойная теперь, постельница Вельяминовых такого бы не
допустила!
постоянно улыбчивый Тимофей нынче был гневен. Уж его-то судьба не обошла
милостями! Окольничий, а вскоре и боярин великого князя (и сыну обещано
боярство не в долгой поре!), многовотчинный и успешливый в делах,
показавший себя в недавнем походе рачительным и дельным воеводою: не токмо
сбор пешцев, но, почитай, и все снабжение рати лежало на нем! Чего бы,
кажется, ему гневать? Да и на дворе веселье, Святки! Уяснила себе не
вдруг...
в самую неудобную для Тимофея пору, когда требовалось считать протори и
убытки минувшего похода, оценивать захваченные в ставке Мамая стада и
добро, расплачиваться со многими участниками, выяснять нужды князей
белозерских и иных...
женатого и на полном возрасте мужества (Семену недавно перевалило за
тридцать), рявкнул походя так, что того шатнуло посторонь:
и Наталья, неволею оказавшись свидетельницей спора, испугалась, узрев
впервые побелевший от ярости взор Тимофея Василича.
не твой слуга, божий!
Кузьмы, заклокотал, забрызгал слюною и гневом. Наталья понизила взор,
замкнула уши, шепча молитву, дабы не слышать слов поносных, излитых
боярином на голову изменника, каковым трактовал Кузьму Тимофей.
Все мы тут, на земле, до часу! А час приходит, и Господь нас призывает к
себе. Кого-то с одра смертного, а кого и прежде, дабы умер для земного и
работал небесному!
прочь!
дверь. Тимофей поднял страдающий взгляд, кажется, впервые заметив Наталью,
и, уже к ней отнесясь, простонал:
возразила Наталья, страшась новой вспышки Тимофеева гнева.
Вернейший из верных был! Без ево как без рук! Молился бы себе... по
ночам... Кто и неволит?! Богу!.. Станет в обители тесто месить, а тут,
почитай, всей Москвы и дела, и дани, и кормы, и грамоты... Тысяцкое
отменили, дак кому-то надоть тянуть?! Думашь, просто?! Думашь, любого
посади... Да я иного дьяку государеву и то доверить не могу! Одних
скотинных голов многие тыщи! А казна! А те же монастыри, что ругу от князя
емлют! А сколь серебра ушло на ратное дело? А гости торговые? А виры,
дани, мытное, конское пятно, лодейное, повозное?! Все, что надобно счесть,
гривны не потерять! Дак я Кузьме с закрытыми глазами верил! Ведал: векши
не пропадет! И кому теперь?! Осиротил, изничтожил меня!
на лавке, словно от зубной боли. Говорить с ним, тем паче о своих делах
семейных, не было никакой возможности. А мог бы, очень мог бы помочь
Тимофей Василич, по своим связям на Москве ведавший вдоль и поперек дела
семейные многих и многих послужильцев и уж у кого на примете невеста...
Нет, нынче Наталье решительно не везло!
городу, вспыхивали радостные клики и песни, неслись по улицам
(<Беррр-р-р-егись!>) ковровые сани, полные хохочущих, румяных с мороза
молодок, и так жалок казался в эти миги Наталье ее расхристанный, обтертый


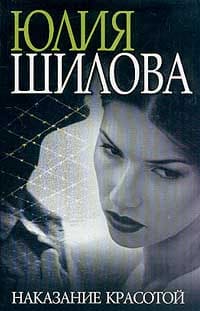



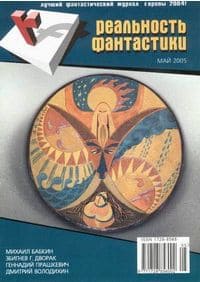 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий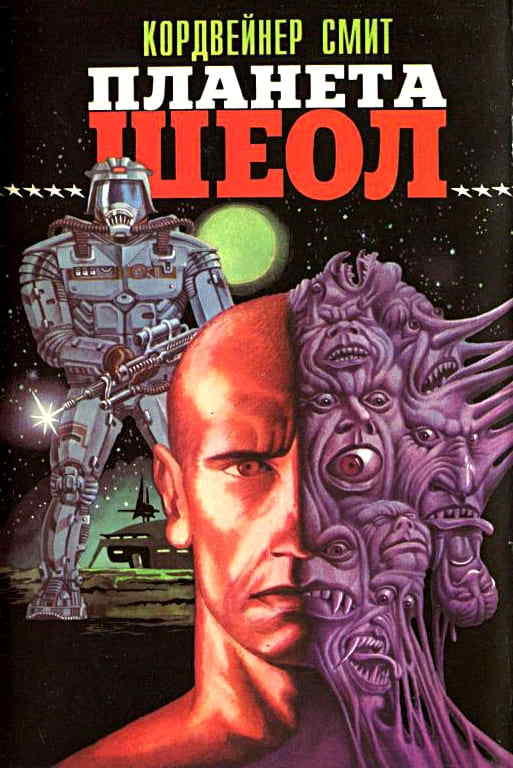 Смит Кордвейнер
Смит Кордвейнер Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Чернецов Андрей
Чернецов Андрей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман