не была бы собой, не была бы Перл!
выражением разносторонности ее натуры. В характере Перл она сочеталась с
глубиной, но если только страхи Гестер не были напрасны, ее дочь не умела
приспособляться, приноравливаться к миру, в котором жила. Девочка не
подчинялась никаким правилам. Ее рождение нарушило великий закон, и вот на
свет появилось создание, наделенное качествами, быть может выдающимися и
прекрасными, но находившимися в полном беспорядке или же в совершенно особом
порядке, в котором трудно, почти невозможно было отличить многообразие от
хаоса. Для того чтобы хоть как-то, хоть поверхностно понять своего ребенка,
Гестер приходилось вспоминать, какова была она сама в тот знаменательный
период, когда душа Перл складывалась из нематериальных элементов, а тело -
из праха земного. Прежде чем проникнуть в душу еще не родившегося младенца,
лучи духовной жизни должны были пройти сквозь грозовую мглу страстного
увлечения матери, и как бы ни были они вначале белы и ясны, эта
промежуточная среда окрасила их в золотисто-алые тона, придала им жгучий
блеск, черные тени и нестерпимую яркость. Более же всего отразилась на Перл
буря, сотрясавшая тогда душу Гестер. Мать различала в дочери свои
необузданные, безумные чувства, бросавшие вызов всему миру, неустойчивость
нрава, и даже слезы отчаянья, омрачавшего, подобно туче, ее сердце. Теперь
все это было озарено утренним сиянием детской жизнерадостности, но позднее,
к полудню земного существования, сулило вихри и грозы.
сердитый окрик, частенько розга, подкрепленная авторитетом священного
писания, применялись не только в виде наказания за совершенные проступки, но
и в качестве средства, полезного для развития и совершенствования всех
ребячьих добродетелей. Но Гестер Прин, нежной матери единственного ребенка,
не грозила опасность оказаться излишне суровой. Памятуя о своих заблуждениях
и несчастьях, она рано начала думать о необходимости мягкого, но
неукоснительного надзора за бессмертной душой девочки, вверенной ее
попечению. Эта задача оказалась ей не по плечу. Испробовав улыбки и суровые
взгляды, убедившись, что ни то, ни другое не производит впечатления, Гестер
принуждена была отойти в сторону, предоставив Перл ее собственным порывам.
Конечно, физическое принуждение обуздывало девочку, но только на то время,
пока оно длилось. Что же касается увещаний и других воспитательных мер,
обращенных к уму или сердцу девочки, то маленькая Перл поддавалась или не
поддавалась им в зависимости от владевшего ею в этот миг каприза. Гестер
научилась распознавать в глазах Перл, когда та была совсем еще малюткой,
особенное выражение, которое предупреждало ее, что просить, убеждать или
настаивать теперь бесполезно. Встречая этот взгляд, умный и в то же время
непонятный, своенравный, а порою и злой, сопровождавшийся обычно буйными
выходками, Гестер спрашивала себя, вправду ли Перл человеческое дитя. Она
скорее была похожа на воздушного эльфа, который поиграет в неведомые игры на
полу комнаты, а потом лукаво улыбнется и улетит. Стоило такому выражению
показаться в страстных, блестящих, совершенно черных глазках девочки, как
вся она становилась странно отчужденной и недосягаемой, словно парила где-то
в воздухе и могла исчезнуть, подобно блуждающему огоньку, который появился
бог весть откуда и исчезнет бог весть куда. В эти минуты Гестер невольно
бросалась к дочери, ловила на бегу старавшуюся ускользнуть шалунью и, осыпая
поцелуями, крепко прижимала к груди не столько от переполнявшей ее любви,
сколько из желания увериться, что Перл не плод фантазии, а ребенок из плоти
и крови. Но смех пойманной девочки, веселый и гармоничный, все же звучал так
странно, что сомнения матери лишь усиливались.
которое так часто становилось между ней и ее единственным сокровищем,
купленным столь дорогой ценой и заменявшим ей весь мир, Гестер разражалась
бурными слезами. В ответ иной раз - ибо точно предсказать поведение Перл
было невозможно - девочка хмурила брови, сжимала кулачки, и на ее
насупившемся личике появлялось суровое, неодобрительное выражение. Нередко
она начинала смеяться еще громче, чем раньше, словно ей было неведомо и
чуждо человеческое горе. Или - но это случалось реже - ее начинали сотрясать
горькие рыдания, и она, всхлипывая, запинаясь, изливала свою любовь к
матери, словно хотела доказать, что раз ее сердцу так больно, значит оно у
нее существует. Но довериться этой порывистой нежности Гестер никак не
могла, потому что улетучивалась она так же быстро, как появлялась. Размышляя
над характером дочери, Гестер чувствовала себя подобно человеку, вызвавшему
духа, но, из-за какой-то ошибки в заклинаниях, не находившему магического
слова, которое должно было управлять странным и непонятным существом.
Тревога покидала Гестер только когда девочка мирно спала в своей кроватке.
Тогда, успокоившись за нее, мать переживала часы тихого, грустного,
блаженного счастья, пока Перл снова не просыпалась, быть может все с тем же
недобрым взглядом, поблескивающим из-под приоткрытых век.
дети начинают нуждаться не только во всегда готовых материнских улыбках и
бессмысленных ласковых словах, но и в общении с другими детьми! И как
счастлива была бы Гестер, если бы звонкий щебет дочери смешивался с криками
других детей, если бы в слитном гомоне, играющих ребятишек можно было
услышать, распознать дорогой ее сердцу голосок! Но об этом нечего было и
думать. В детском мирке Перл была отщепенкой. Отпрыск порока, следствие и
воплощение греха, она не имела права находиться в обществе христианских
детей. С помощью какого-то необыкновенного чутья девочка, казалось, поняла
свое одиночество, свою судьбу, замкнувшую ее в неприступном кругу, словом,
всю особенность своего положения среди сверстников. Со дня выхода из тюрьмы
Гестер ни разу не появлялась в городе без дочери. Когда Перл была крошкой,
мать носила ее на руках, а когда подросла и превратилась в маленькую подругу
матери, она бежала рядом с ней по улицам, ухватившись кулачком за ее палец и
делая три-четыре шага, пока та успевала сделать один. На порогах домов и на
поросших травою обочинах улиц она видела детей, которые развлекались
мрачными играми, подсказанными пуританским воспитанием: ходили в
воображаемую церковь, наказывали плетьми квакеров, дрались с индейцами и
снимали с них скальпы или гримасничали, изображая ведьм и пугая друг друга.
Перл видела, внимательно смотрела, но никогда не пыталась знакомиться. Если
с ней заговаривали, она не отвечала. Если иной раз дети окружали ее, она
становилась просто страшной в своей детской ярости, хватала камни и
бросалась ими с такими пронзительными, нечленораздельными возгласами, что
Гестер пробирала дрожь: настолько они напоминали проклятия ведьм на каком-то
неведомом языке!
свете племени, смутно чувствовали в матери и ребенке что-то иноземное,
чуждое, не схожее с другими людьми, и поэтому сердца их были полны
презрения, а губы нередко произносили грубую брань. Перл чувствовала их
отношение и отвечала на него такой острой ненавистью, какая только может
гнездиться в детской груди. Гестер одобрительно смотрела на эти бурные
взрывы гнева и даже находила в них какое-то успокоение, потому что они
свидетельствовали о понятной пылкости натуры, а не о прихотливом своенравии,
так часто ее огорчавшем. И все-таки она приходила в ужас, узнавая и в этом
смутное отражение дурного начала, жившего в ней самой. По неоспоримому праву
Перл унаследовала страстную враждебность, наполнявшую сердце Гестер. Одна и
та же черта отделяла мать и дочь от человеческого общества, и в характере
ребенка словно запечатлелась неуравновешенность чувств самой Гестер Прин,
чувств, которые сбили ее с пути до рождения Перл и начали утихать лишь под
смягчающим влиянием материнства.
разнообразном детском обществе. Жизненная сила, излучаемая ее неутомимым
творческим духом, сообщалась тысяче вещей, как пламя факела охватывает все,
к чему оно ни прикасается. Самые неподходящие предметы - палка, свернутые в
узелок тряпки, цветок - становились куклами Перл и, оставаясь внешне
неизменными, словно по волшебству приспособлялись к драме, которая
разыгрывалась на подмостках внутреннего мира девочки. Ее детским голосом
разговаривало между собой множество воображаемых существ, молодых и старых.
Древние черные величавые сосны, печально вздыхавшие и охавшие под порывами
ветра, без труда превращались во взрослых пуритан, а уродливые сорные травы
- в их детей, которых Перл ожесточенно топтала и старалась вырвать с корнем.
Поразительно, в какие многообразные формы отливалось ее воображение, не
признававшее никакой последовательности. Девочка прыгала и плясала,
обуреваемая сверхъестественной жаждой деятельности, потом падала, словно
обессилев под напором столь быстрого и лихорадочного потока жизни, вновь
вскакивала и с такой же бурной энергией начинала воплощаться в новые образы.
Более всего это было похоже на фантасмагорическую игру северного сияния. Но
такую живость развившегося ума и работу воображения можно наблюдать у многих
одаренных детей, с той лишь разницей, что, не имея товарищей игр, Перл
вынуждена была ограничиваться созданными ею призраками. Особенность
заключалась в том, что ко всем этим отпрыскам своего сердца и ума она
относилась с глубокой враждебностью. У нее не было ни одного вымышленного
друга, она всегда словно сеяла зубы дракона, дававшие обильную жатву
вооруженных врагов, с которыми девочка потом вступала в яростный бой. Не
только матери, чувствовавшей себя виновницей этого, но даже стороннему
наблюдателю было бесконечно грустно видеть в таком юном существе понимание
неприязненности окружающего мира и неустанное упражнение всех жизненных сил,
которые понадобятся, чтобы одержать победу в предстоящей борьбе.
плакать от горя, которое, как ни силилась она его скрыть, невольно
вырывалось из ее груди в словах, похожих на стон: "Отец небесный, если ты
по-прежнему мой отец, ответь мне, что за существо я произвела на свет!" А
Перл, услышав восклицание матери или почувствовав каким-то иным, неуловимым
путем этот взрыв муки, поднимала к Гестер оживленное прелестное личико,
улыбалась понимающей улыбкой эльфа и возобновляла игру.
впервые в жизни привлекло к себе внимание Перл? Материнская улыбка, на
которую она ответила, подобно другим детям, смутной улыбкой младенческих



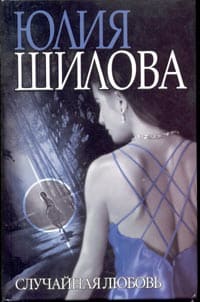

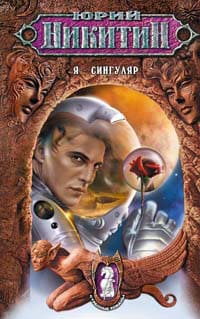
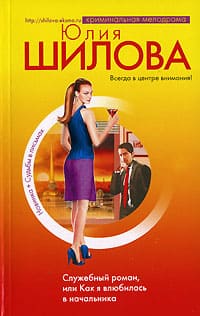 Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Лукин Евгений
Лукин Евгений Корнев Павел
Корнев Павел Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Мурич Виктор
Мурич Виктор