высоко, что ту фразу знала на память вся Святая гора, чуть только она была
произнесена, хотя никогда никто ее не повторил. Оставалась общей тайной.
времени выпускает росток, не ведая, с морозом ли, с солнцем ли встретится...
Так было во времена, когда и камни росли. А потом камни расти перестали.
Пришла война, Грецию заполонили немецкие войска, и тот наместник-одиночка
дорого заплатил за свою любовь к монастырю. Ты должен знать, что он твоего
отца, как и других офицеров из Югославии, принял и укрыл здесь, в обители.
Как-то между тем во время женской трапезы (когда едят монахи-одиночки) в
монастыре появился немецкий капитан с двумя унтер-офицерами и десятком
солдат. За кофе, который по этому поводу был приправлен мастикой, повел он
разговор.
спросил для начала настоятель.
капитан.
капель воды и так пьют. А коли идете с моря, где вас умыло солнце, а волны
добавили ветра, тогда, напротив, в стакан с водой нужно плеснуть мастики.
Тогда жидкость превратится в туман и дымку, ароматную и пенистую. Все это
следует выпить до капли, и утомление и головокружение как рукой снимает.
мастику и выпил. Так настоятель понял, что дела обстоят плохо и что немец
пришел по суше, -- стало быть, тем же путем, которым пришли и беглецы с
албанского фронта. Шел по их следу.
беглецы из Югославии. Получив отрицательный ответ, встал, дождался, пока
краска, разлившись по лицу, стекла в уши, сказал:
святой обители, но сейчас идет война, и мы лишь авангард целой армии. Если я
не получу точного ответа, я прикажу солдатам обыскать монастырь и найду
беглецов, о которых мне известно, что они находятся здесь, что их трое, что
все они офицеры, которые причинили урон нашим силам в этой войне. В том
случае, если их не передадите мне вы и я должен буду искать их сам, я
прикажу Хилендар спалить. За вами решение...
идиоритмиком, принадлежал укладу отшельников, тех, кто оберегал монастырь и
ставил его превыше всего на свете, и поступок этим был предопределен. Если
бы он был из тех, других, которые пребывают здесь в общинах и не столь
заботятся о Хилендаре, не случилось бы того, что должно было случиться... Я
тебе об этом не стану рассказывать, потому как конец может досказать любой
монах из тех, кто в то время пребывал в обители...
банку и протянул Свилару.
Может, он поведает тебе о том, что ты делал и что следует тебе делать. Я не
знаю... Монах перевернул посох так, что тонкий конец оказался под рукой,
наморщил лоб, отогнал мысли и двинулся прочь, ступая пальцами в пятки своих
перевернутых опанок. Травы сеяли за ним золотистую пыльцу наподобие молотого
ореха и запорошили следы его перевернутой обуви. Между Свиларом и ним
протекала вода и свирепела сенная лихорадка; казалось, что старик
приближается, хотя он уходил. Свилар бежал к монастырю, гоня впереди себя
пахучие пассаты. На миг он поднял голову, посмотрел на солнце и подумал, что
его взгляд все еще будет стремиться к солнцу и тогда, когда сам он будет
мертв.
горшок. Он только чувствовал, что руки настолько холодны, что от них стыло
лицо, и во сне он держал подальше от головы свои ледяные пальцы.
бессонную ночь. Сенная лихорадка, пока он, уставший, спал себе, наяву делала
свое дело. И она его сделала.
отдельные кельи и получают своего рода отпуск по болезни и совсем немного
помощи:
тому подобное. Там они прислушиваются к крохотному отрезку времени в себе и
к тому огромному целому времени, что снаружи, и ждут. которое возьмет верх.
Им еще дозволяется, что в Хилендаре, вообще-то, не было принято, завтракать.
Так поступили и со Свиларом. Ему дали соты темного и твердого хилендарского
меда, который ломается, м не мажется, и немного вина в ступе, настоянного на
толченом черном перце.
монастырской трапезной, которая смотрела на врата храма Введения Богородицы,
и пил теплое вино вместо завтрака. Смазывал медом ноздри и разглядывал
стену, расписанную сценами из жизни святого Саввы, основателя монастыря.
Солнце входило в помещение и неспешно озаряло одну за другой эти картины из
княжеской жизни, следуя от сцены смерти к рождению, потому что солнце всегда
идет от смерти к рождению...
словно бы проржавевший. Хотя Свилар и никогда не видел его, он сразу узнал
отца Варлаама, того второго монаха, рекомендованного ему по приходе в
обитель. Человек с глазами голубыми, словно напоенными морем и солью, стоял
перед Свиларом подстриженный, без горшка на голове. Голос у него был такой
зычный, словно он прибыл прямо с корабля. Глаза у монаха прикрывались,
совсем как у птицы, нижними веками, ногти, заостренные и крепкие, источали
непонятный запах, и еще у него были гнилые зубы, которые ужасно болели, и
потому он непрестанно тихонько поскуливал. Когда он говорил, из глубин его
огромного тела доносились необычные звуки, похожие на удаленное, будто
из-под воды, кукареканье петухов, будоражащее его печень и легкие. Голову,
словно рой мошкары, обволакивала перхоть, она осыпала плечи и покрывала
волосы нимбом. В обуви отец Варлаам проделал отверстия, наподобие прорези
для своих подслеповатых глаз, и при ходьбе было слышно, как его ногти,
проросшие сквозь носки, царапали пол. На одну, левую, ногу он хромал, и она
была словно смочена другим потом, чем правая, источая совсем иную вонь,
похоже аммиачную и куда более сильную, чем ее напарница. Крепкий и страшно
соленый пот разъел рясу у воротника и под мышками, а снизу же ее прожгло
неиссушимое семя, которое он рассыпал на ходу, сжигая все, что орошал.
Говорил он с трудом ворочая языком. Жил, ел, дышал и спал с превеликим
усилием, словно сооружал пирамиду где-то внутри себя.
закинул прядь волос, словно привязывая ухо. -- Я вспоминаю сорок первый год,
когда пришел ваш отец сюда, ветра были сильные: одежды сдирали и до костей
бичевали. По такому ветру и пришел ваш отец, майор Свилар, с двумя
товарищами, пришли расхристанные, словно их вихрь принес. Теми раскаленными
тропами столетиями никто не приходил в обитель, потому как здесь все дороги
ведут к морю. Вот на границе их никто и не увидел. В монастыре их приняли,
приютили и угощали, как всякого другого гостя, потому как для путника
испокон веку здесь все бесплатно. Ваш отец, майор Свилар, был в бороде,
густой, ровно мох, а голос имел столь внушительный, что его нельзя было
заглушить. Сюда он приспел уже обученный церковному пению, ныне редкому и
необычному, ибо не обучают этому в консерваториях, где осваивают лишь
западный извод церковного песнопения. С нами, несколькими общинниками,
которые жили в обители, он сразу сошелся и без усилий включился в нашу
жизнь, хотя мы тогда не имели тут превосходства, а настоятель и все прочие
были одиночниками, о чем вы, наверное, уже наслышаны. Ваш отец черпал вино,
сдабривал его черным виноградом и переписывал монастырскую библиотеку,
выискивая между страницами старых книг вложенные туда как закладки травы или
цветы из семнадцатого и восемнадцатого веков, потому как его привлекали
растения. Он брал росток, зажмурившись, и сажал в землю, стоя на коленках, в
маленьком садике у ручья. После чего с еще большим удовольствием пел в
церкви раннюю обедню.
Как немецкие власти узнали, что на Святой горе находятся беглые офицеры,
трудно сказать. Скорее всего те сами себя выдали. Думается, на последнем
ночлеге перед Святой горой майор Свилар
говорят, сказал:
словно с небесной выси спустился его голос в храм, и запел он славянскую
литургию во время греческой службы, так что даже глухие поняли, что это не
болгарский распев и среди паствы на вечерне беглецы из Сербии. Это их и
выдало. Немцы пришли по тому следу к нам в обитель и поставили тогдашнего
настоятеля перед выбором -- или Хилендар, или беглецы. Мы, общинники,
боялись в равной мере и того, что сделают немцы, и того, как должен
поступить настоятель. Ибо знали его натуру и природу отшельничества, к
которому он принадлежал. Всем своим долгим воспитанием он был накрепко
привязан к хилендарскому храму Введения Богородицы, к монастырю и всему в
нем, и вообще у него не было выбора. Он не раздумывал ни минуты, ибо волосы
под мышкой не суть ангельские крылья. Он признал, что в обители укрываются
трое военных, беглецы из Югославии, что они офицеры, и уже когда выходил из
комнаты, мы видели, как у него после того признания глаз вышел через пробор
на темени. Сбегали мы в ночлежку, отыскали беглецов, спрятавшихся в брюхе
огромной бочки, подстригли их, одели в монашеские рясы и проводили из
монастыря.
нашел офицерский мундир своего отца, а в кармане -- прядь отцовских волос с



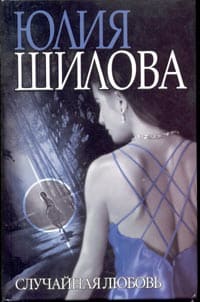


 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс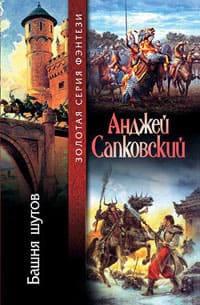 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Флинт Эрик
Флинт Эрик Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Никитин Юрий
Никитин Юрий Ларссон Стиг
Ларссон Стиг