Смотрите как на стихи, но не более, ибо стихи вс¬-таки вздор и оправдывают
то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на
инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в
микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при
высшем обществе, сострадая по праву собаке и лошади, презирает кроткую
инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я.
Мысль о браке показалась бы уморительною; но скоро буду иметь бывшие двести
душ чрез человеконенавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и
вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от
инфузории разуметь в стихах.
"Капитан Лебядкин, покорнейший друг и имеет досуг".
- Это писал человек в пьяном виде и негодяй! - вскричал я в негодовании, -
я его знаю!
- Это письмо я получила вчера, - покраснев и торопясь стала объяснять нам
Лиза, - я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца, и до сих
пор еще не показала maman, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он
будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич
хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела, как на сотрудника,
- обратилась она к Шатову, - и так как вы там живете, то я и хотела вас
расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно.
- Пьяный человек и негодяй, - пробормотал как бы нехотя Шатов.
- Что ж, он вс¬ такой глупый?
- И, нет, о, не глупый совсем, когда не пьяный.
- Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи, - заметил
я смеясь.
- Даже и по этому письму видно, что себе на уме, - неожиданно ввернул
молчаливый Маврикий Николаевич.
- Он, говорят, с какой-то сестрой?-спросила Лиза.
- Да, с сестрой.
- Он, говорят, ее тиранит, правда это?
Шатов опять поглядел на Лизу, насупился, и проворчав: "какое мне дело!"
подвинулся к дверям.
- Ах, постойте, - тревожно вскричала Лиза, - куда же вы? Нам так много еще
остается переговорить...
- О чем же говорить? Я завтра дам знать...
- Да о самом главном, о типографии! Поверьте же, что я не в шутку, а
серьезно хочу дело делать, - уверяла Лиза все в возрастающей тревоге. -
Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос,
потому что в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии
невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию, на
ваше хоть имя, и мама, я знаю, позволит, если только на ваше имя...
- Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком? - угрюмо спросил
Шатов.
- Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы
можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам
дать, да я забыла.
Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько
секунд и вдруг вышел из комнаты.
Лиза рассердилась.
- Он всегда так выходит? - повернулась она ко мне. Я пожал было плечами, но
Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток
газет:
- Я не буду сотрудником, не имею времени...
- Почему же, почему же? Вы, кажется, рассердились? - огорченным и умоляющим
голосом спрашивала Лиза.
Звук ее голоса как будто поразил его; несколько мгновений он пристально в
нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.
- Вс¬ равно, - пробормотал он тихо, - я не хочу...
И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в
меру; так показалось мне.
- Удивительно странный человек! - громко заметил Маврикий Николаевич.
III.
Конечно "странный", но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут
что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию; потом это
глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос "по
документам" и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом, наконец
эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о
типографии. Вс¬ это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то
произошло и о чем я не знаю; что стало быть я лишний и что вс¬ это не мое
дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел
откланяться Лизавете Николаевне.
Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла вс¬ на том же месте у
стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну
выбранную на ковре точку.
- Ах и вы, до свидания, - пролепетала она привычно-ласковым тоном. -
Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его придти ко мне
поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама не
может выйти с вами проститься...
Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на
крыльце:
- Барыня очень просили воротиться...
- Барыня или Лизавета Николаевна?
- Оне-с.
Я нашел Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей
приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич
один, дверь была притворена наглухо.
Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой
нерешимости, в видимой борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро
подвела к окну.
- Я немедленно хочу ее видеть, - прошептала она, устремив на меня горячий,
сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия; - я
должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.
Она была в совершенном исступлении и - в отчаянии.
- Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна?-осведомился я в испуге.
- Эту Лебядкину, эту хромую... Правда, что она хромая?
Я был поражен.
- Я никогда не видал ее, но я слышал, что она хромая, вчера еще слышал, -
лепетал я с торопливою готовностию и тоже шепотом.
- Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?
Мне стало ужасно ее жалко.
- Это невозможно и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, -
начал было я уговаривать, - я пойду к Шатову...
- Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что
Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет


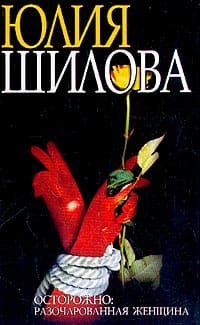



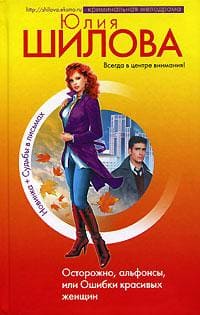 Шилова Юлия
Шилова Юлия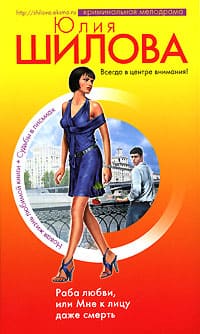 Шилова Юлия
Шилова Юлия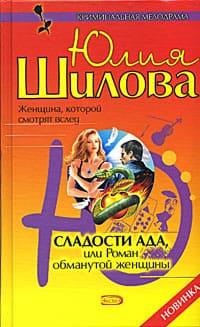 Шилова Юлия
Шилова Юлия Свержин Владимир
Свержин Владимир Ильин Андрей
Ильин Андрей Эриксон Стивен
Эриксон Стивен