- Я и теперь его терпеть не могу за важничание, но я отдаю справедливость и
его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла. И к чему
непременно заявлять себя смешным и скучным? Напротив, выйдите на эстраду с
почтенною улыбкой, как представитель прошедшего века, и расскажите три
анекдота, со всем вашим остроумием, так, как вы только умеете иногда
рассказать. Пусть вы старик, пусть вы отжившего века, пусть наконец отстали
от них; но вы сами с улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят,
что вы милый, добрый, остроумный обломок... Одним словом, человек старой
соли и настолько передовой, что сам способен оценить во что следует вс¬
безобразие иных понятии, которым до сих пор он следовал. Ну сделайте мне
удовольствие, я вас прошу.
- Chere, довольно! Не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму бурю,
которая или раздавит их всех, или поразит одного меня!
- Наверно одного вас, Степан Трофимович.
- Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и
развратном лакее, который первый взмостится на лестницу с ножницами в руках
и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, зависти и...
пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие, и тогда, тогда...
- В сумасшедший дом?
- Может быть. Но во всяком случае, останусь ли я побежденным или
победителем, я в тот же вечер возьму мою суму, нищенскую суму мою, оставлю
все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы и обещания будущих благ и
уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером, либо умереть
где-нибудь с голоду под забором. Я сказал. Alea jacta est!
Он приподнялся снова.
- Я была уверена, - поднялась, засверкав глазами, Варвара Петровна, -
уверена уже годы, что вы именно на то только и живете, чтобы под конец
опозорить меня и мой дом клеветой! Что вы хотите сказать вашим
гувернерством у купца или смертью под забором? Злость, клевета и ничего
больше!
- Вы всегда презирали меня; но я кончу как рыцарь верный моей даме, ибо
ваше мнение было мне всегда дороже всего. С этой минуты не принимаю ничего,
а чту бескорыстно.
- Как это глупо!
- Вы всегда не уважали меня. Я мог иметь бездну слабостей. Да, я вас
объедал; я говорю языком нигилизма; но объедать никогда не было высшим
принципом моих поступков. Это случилось так, само собою, я не знаю как... Я
всегда думал, что между нами остается нечто высшее еды, и - никогда,
никогда не был я подлецом! Итак, в путь, чтобы поправить дело! В поздний
путь, на дворе поздняя осень, туман лежит над полями, мерзлый, старческий
иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле... Но
в путь, в путь, в новый путь:
О, прощайте мечты мои! Двадцать лет! Alea jacta est.
Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами; он взял свою шляпу.
- Я ничего не понимаю по-латыни, - проговорила Варвара Петровна, изо всех
сил скрепляя себя.
Кто знает, может быть ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз
еще раз взяли верх:
- Я знаю только одно, именно, что вс¬ это шалости. Никогда вы не в
состоянии исполнить ваших угроз, полных эгоизма. Никуда вы не пойдете, ни к
какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсион и
собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан
Трофимович.
- Alea jacta est! - глубоко поклонился он ей и воротился домой еле живой от
волнения.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Петр Степанович в хлопотах
I.
День праздника был назначен окончательно, а фон-Лембке становился вс¬
грустнее и задумчивее. Он был полон странных и зловещих предчувствий, и это
сильно беспокоило Юлию Михайловну. Правда, не вс¬ обстояло благополучно.
Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке; в
настоящую минуту надвигалась холера; в иных местах объявился сильный
скотский падеж; вс¬ лето свирепствовали по городам и селам пожары, а в
народе вс¬ сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах.
Грабительство возросло вдвое против прежних размеров. Но вс¬ бы это,
разумеется, было более чем обыкновенно, если бы при этом не было других
более веских причин, нарушавших спокойствие доселе счастливого Андрея
Антоновича.
Всего более поражало Юлию Михайловну, что он с каждым днем становился
молчаливее и, странное дело, скрытнее. И чего бы, кажется, ему было
скрывать? Правда, он редко ей возражал и большею частию совершенно
повиновался. По ее настоянию были, например, проведены две или три меры,
чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные, в видах усиления
губернаторской власти. Было сделано несколько зловещих потворств с тою же
целию; люди, например, достойные суда и Сибири, единственно по ее
настоянию, были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы
положено было систематически не отвечать. Вс¬ это обнаружилось
впоследствии. Лембке не только вс¬ подписывал, но даже и не обсуждал
вопроса о мере участия своей супруги в исполнении его собственных
обязанностей. Зато вдруг начинал временами дыбиться из-за "совершенных
пустяков" и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он
чувствовал потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К
сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла
понять этой благородной тонкости в благородном характере. Увы! ей было не
до того, я от этого произошло много недоумений.
Мне не-стать, да и не сумею я рассказывать об иных вещах. Об
административных ошибках рассуждать тоже не мое дело, да и всю эту
административную сторону я устраняю совсем. Начав хронику, я задался
другими задачами. Кроме того многое обнаружится назначенным теперь в нашу
губернию следствием, стоит только немножко подождать. Однако вс¬-таки
нельзя миновать иных разъяснений.
Но продолжаю о Юлии Михайловне. Бедная дама (я очень сожалею о ней) могла
достигнуть всего, что так влекло и манило ее (славы и прочего) вовсе без
таких сильных и эксцентрических движений, какими она задалась у нас с
самого первого шага. Но от избытка ли поэзии, от долгих ли грустных неудач
первой молодости, она вдруг, с переменой судьбы, почувствовала себя как-то
слишком уж особенно призванною, чуть ли не помазанною, "над коей вспыхнул
сей язык", а в языке-то этом и заключалась беда: вс¬-таки ведь он не
шиньйон, который может накрыть каждую женскую голову. Но в этой истине
всего труднее уверить женщину; напротив, кто захочет поддакивать, тот и
успеет, а поддакивали ей взапуски. Бедняжка разом очутилась игралищем самых
различных влияний, в то же время вполне воображая себя оригинальною. Многие
мастера погрели около нее руки и воспользовались ее простодушием в краткий
срок ее губернаторства. И что за каша выходила тут под видом
самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и
аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и
демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и
социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность
чуть не трактирная окружавшей ее молодежи. Она мечтала дать счастье и
примирить непримиримое, вернее же, соединить всех и вс¬ в обожании
собственной ее особы. Были у ней и любимцы; Петр Степанович, действуя между
прочим (грубейшею лестью, ей очень нравился. Но он нравился ей и по другой
причине, самой диковинной и самой характерно рисующей бедную даму: она вс¬
надеялась, что он укажет ей целый государственный заговор! Как ни трудно
это представить, а это было так. Ей почему-то казалось, что в губернии
непременно укрывается государственный заговор. Петр Степанович своим
молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее
странной идеи. Она же воображала его в связях со всем, что есть в России
революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие
заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие
"лаской" на молодежь для удержания ее на краю, - вс¬ это вполне уживалось в
фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра
Степановича (в этом она была почему-то неотразимо уверена), спасет и


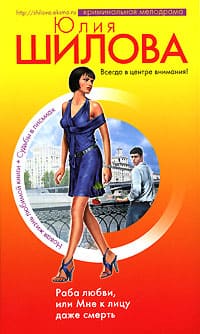



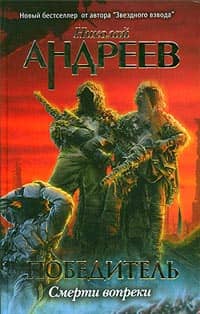 Андреев Николай
Андреев Николай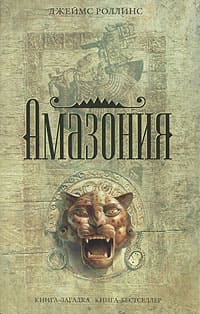 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Лукин Евгений
Лукин Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия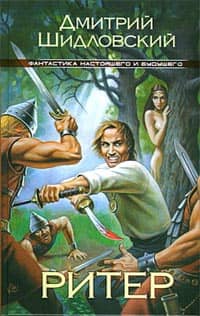 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия