- Ну уж, разумеется, не подпишут. Разным слогом? Разных рук?
- Разным слогом и разных рук.
- И шутовские были, как это?
- Да, шутовские, и знаете... очень гадкие.
- Ну коли уж были, так наверно и теперь то же самое.
- А главное потому, что так глупо. Потому что те люди образованные и
наверно так глупо не напишут.
- Ну да, ну да.
- А что, если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно донести?
- Невероятно, - сухо отрезал Петр Степанович. - Что значит телеграмма из
третьего отделения и пенсион? Пашквиль очевидный.
- Да, да, - устыдился Лембке.
- Знаете что, оставьте-ка это у меня. Я вам наверно разыщу. Раньше чем тех
разыщу.
- Возьмите, - согласился фон-Лембке, с некоторым впрочем колебанием.
- Вы кому-нибудь показывали?
- Нет, как можно, никому.
- То-есть Юлии Михайловне?
- Ах, боже сохрани, и ради бога не показывайте ей сами! - вскричал Лембке в
испуге. - Она будет так потрясена... и рассердится на меня ужасно.
- Да, вам же первому и достанется, скажет, что сами заслужили, коли вам так
пишут. Знаем мы женскую логику. Ну, прощайте. Я вам, может, даже дня через
три этого сочинителя представлю. Главное уговор!
IV.
Петр Степанович был человек может быть и неглупый, но Федька Каторжный
верно выразился о нем, что он "человека сам сочинит, да с ним и живет".
Ушел он от фон-Лембке вполне уверенный, что по крайней мере на шесть дней
того успокоил, а срок этот был ему до крайности нужен. Но идея была ложная,
и вс¬ основано было только на том, что он сочинил себе Андрея Антоновича, с
самого начала, и раз навсегда, совершеннейшим простачком.
Как и каждый страдальчески-мнительный человек, Андрей Антонович всякий раз
бывал чрезвычайно и радостно доверчив в первую минуту выхода из
неизвестности. Новый оборот вещей представился ему сначала в довольно
приятном виде, несмотря на некоторые вновь наступавшие хлопотливые
сложности. По крайней мере старые сомнения падали в прах. К тому же он так
устал за последние дни, чувствовал себя таким измученным и беспомощным, что
душа его поневоле жаждала покоя. Но увы, он уже опять был неспокоен. Долгое
житье в Петербурге оставило в душе его следы неизгладимые. Официальная и
даже секретная история "нового поколения" ему была довольно известна, -
человек был любопытный и прокламации собирал, - но никогда не понимал он в
ней самого первого слова. Теперь же был как в лесу: он всеми инстинктами
своими предчувствовал, что в словах Петра Степановича заключалось нечто
совершенно несообразное, вне всяких форм и условий, - "хотя ведь чорт
знает, что может случиться в этом "новом поколении" и чорт знает, как это у
них там совершается!" раздумывал он, теряясь в соображениях.
А тут как нарочно снова просунул к нему голову Блюм. Вс¬ время посещения
Петра Степановича он выжидал недалеко. Блюм этот приходился даже
родственником Андрею Антоновичу, дальним, но всю жизнь тщательно и боязливо
скрываемым. Прошу прощения у читателя в том, что этому ничтожному лицу
отделю здесь хоть несколько слов. Блюм был из странного рода "несчастных"
немцев - и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно
почему. "Несчастные" немцы не миф, а действительно существуют, даже в
России, и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь питал к
нему самое трогательное сочувствие, и везде, где только мог, по мере
собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчиненное,
подведомственное ему местечко; но тому нигде не везло. То место оставлялось
за штатом, то переменялось начальство, то чуть не упекли его однажды с
другими под суд. Был он аккуратен, но как-то слишком без нужды и во вред
себе мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и,
при всей своей приниженности, упрямый и настойчивый как вол, хотя всегда
невпопад. К Андрею Антоновичу питал он с женой и с многочисленными детьми
многолетнюю и благоговейную привязанность. Кроме Андрея Антоновича никто
никогда не любил его. Юлия Михайловича сразу его забраковала, но одолеть
упорство своего супруга не могла. Это была их первая супружеская ссора, и
случилась она тотчас после свадьбы, в самые первые медовые дни, когда вдруг
обнаружился пред нею Блюм, до тех пор тщательно от нее припрятанный, с
обидною тайной своего к ней родства. Андрей Антонович умолял сложа руки,
чувствительно рассказал всю историю Блюма и их дружбы с самого детства, но
Юлия Михайловна считала себя опозоренною навеки и даже пустила в ход
обмороки. Фон-Лембке не уступил ей ни шагу и объявил, что не покинет Блюма
ни за что на свете и не отдалит от себя, так что она наконец удивилась и
принуждена была позволить Блюма. Решено было только, что родство будет
скрываемо еще тщательнее, чем до сих пор, если только это возможно, и что
даже имя и отчество Блюма будут изменены, потому что его тоже почему-то
звали Андреем Антоновичем. Блюм у нас ни с кем не познакомился, кроме
одного только немца-аптекаря, никому не сделал визитов и, по обычаю своему,
зажил скупо и уединенно. Ему давно уже были известны и литературные грешки
Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман в
секретных чтениях наедине, просиживал по шести часов сряду столбом; потел,
напрягал все свои силы, чтобы не заснуть и улыбаться; придя домой, стенал
вместе с длинноногою и сухопарою женой о несчастной слабости их благодетеля
к русской литературе.
Андрей Антонович со страданием посмотрел на вошедшего Блюма.
- Я прошу тебя, Блюм, оставить меня в покое, - начал он тревожною
скороговоркой, очевидно желая отклонить возобновление давешнего разговора,
прерванного приходом Петра Степановича.
- И однако ж это может быть устроено деликатнейше, совершенно негласно; вы
же имеете все полномочия, - почтительно, но упорно настаивал на чем-то
Блюм, сгорбив спину и придвигаясь вс¬ ближе и ближе мелкими шагами к Андрею
Антоновичу.
- Блюм, ты до такой степени предан мне и услужлив, что я всякий раз смотрю
на тебя вне себя от страха.
- Вы всегда говорите острые вещи и в удовольствии от сказанного засыпаете
спокойно, но тем самым себе повреждаете.
- Блюм, я сейчас убедился, что это вовсе не то, вовсе не то.
- Не из слов ли этого фальшивого, порочного молодого человека, которого вы
сами подозреваете? Он вас победил льстивыми похвалами вашему таланту в
литературе.
- Блюм, ты не смыслишь ничего; твой проект нелепость, говорю тебе. Мы не
найдем ничего, а крик подымется страшный, затем смех, а затем Юлия
Михайловна...
- Мы несомненно найдем вс¬, чего ищем, - твердо шагнул к нему Блюм,
приставляя к сердцу правую руку; - мы сделаем осмотр внезапно, рано поутру,
соблюдая всю деликатность к лицу и всю предписанную строгость форм закона.
Молодые люди, Лямшин и Телятников, слишком уверяют, что мы найдем вс¬
желаемое. Они посещали там многократно. К господину Верховенскому никто
внимательно не расположен. Генеральша Ставрогина явно отказала ему в своих
благодеяниях, и всякий честный человек, если только есть таковой в этом
грубом городе, убежден, что там всегда укрывался источник безверия и
социального учения. У него хранятся все запрещенные книги, "Думы" Рылеева,
все сочинения Герцена... Я на всякий случай имею приблизительный каталог...
- О боже, эти книги есть у всякого; как ты прост, мой бедный Блюм!
- И многие прокламации, - продолжал Блюм, не слушая замечаний. - Мы кончим
тем, что непременно нападем на след настоящих здешних прокламаций. Этот
молодой Верховенский мне весьма и весьма подозрителен.
- Но ты смешиваешь отца с сыном. Они не в ладах; сын смеется над отцом
явно.





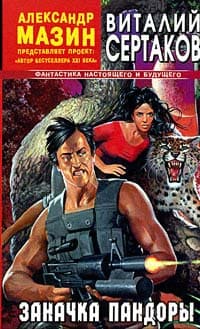
 Никитин Юрий
Никитин Юрий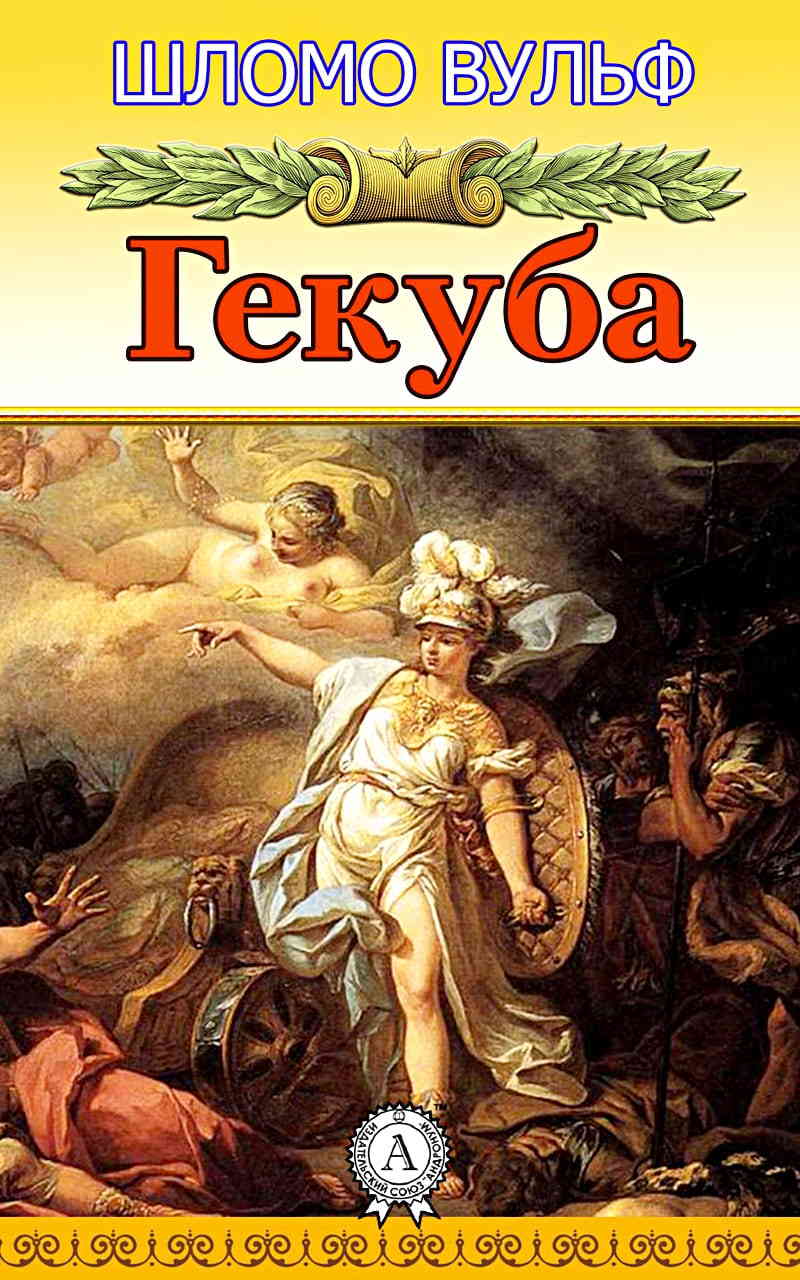 Шломо Вульф
Шломо Вульф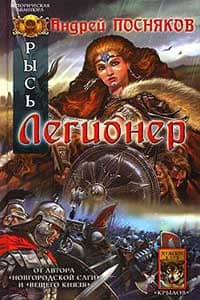 Посняков Андрей
Посняков Андрей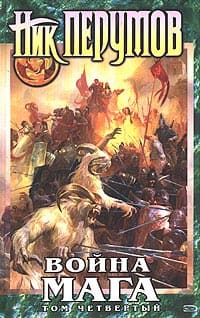 Перумов Ник
Перумов Ник Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Майер Стефани
Майер Стефани