на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим
положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма
порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний конечно не
много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма
интересных темах и, что всего драгоценнее, с замечательною
рассудительностию. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого
дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень
разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время
смел и самоуверен как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью
и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы
его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны
и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком
ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, - казалось бы
писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что
лицо его напоминает маску; впрочем многое говорили, между прочим и о
чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара
Петровна смотрела на него с гордостию, но постоянно с беспокойством. Он
прожил у нас с полгода - вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и
с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по
отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло
несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.
Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш
губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, -
чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно
отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству,
ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а
не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно
говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это
было едко сказано, но однако же - решительная ложь. Да и мало ли было на
этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в
последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего
назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и
добровольно заключилась в строгие пределы, ею самою себе поставленные.
Вместо высших назначений, она вдруг начала заниматься хозяйством, и в
два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень.
Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать
журнал и проч.), она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича
отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот
давно уже приставал к ней сам под разными предлогами). Мало-по-малу Степан
Трофимович стал называть ее прозаическою женщиной или еще шутливее: "своим
прозаическим другом". Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в
чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.
Все мы, близкие, понимали, - а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, -
что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде
какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в
петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено
было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно
боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась
чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать,
и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что то
соображая и разглядывая... и вот - зверь вдруг выпустил свои когти.
II.
Наш принц вдруг, ни с того, ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости
разным лицам, то-есть главное именно в том состояло, что дерзости эти
совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие
в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические, и чорт знает
для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин
нашего клуба, Петр Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный,
взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: "Нет-с,
меня не проведут за нос!" Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по
какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него
кучке клубных посетителей (и вс¬ людей не последних), Николай Всеволодович,
стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к
Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и
успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь
никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое
школьничество, разумеется, непростительнейшее; и однако же рассказывали
потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, "точно как бы
с ума сошел"; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все
сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно вс¬ понимал
в настоящем виде и не только не смутился, но напротив улыбался злобно и
весело, "без малейшего раскаяния". Шум поднялся ужаснейший; его окружили.
Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и
с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец вдруг как будто
задумался опять, - так по крайней мере передавали, - нахмурился, твердо
подошел к оскорбленному Петру Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой,
пробормотал:
- Вы конечно извините... Я право не знаю как мне вдруг захотелось...
глупость...
Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще.
Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.
Вс¬ это было очень глупо, не говоря уже о безобразии - безобразии
рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть
составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему
нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно
и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем
порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его
немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать
вредного буяна, столичного "бретера, вверенною ему административною
властию, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города
от вредных посягновений". С злобною невинностию прибавляли при этом, что
"может быть и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон". Именно
эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну.
Размазывали с наслаждением. Губернатора как нарочно не случилось тогда в
городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней
вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро
воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Петру Павловичу
целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебывал у него с
визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по
усиленной его же просьбе оставили эту мысль, - может быть смекнув наконец,
что человека вс¬-таки протащили за нос и что стало быть очень-то уж
торжествовать нечего.
И однако как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно
то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого
дикого поступка сумасшествию. Значит от Николая Всеволодовича, и от умного,
наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих
пор не знаю как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие,
казалось бы вс¬ объяснившее и всех, повидимому, умиротворившее. Прибавлю
тоже, что четыре года спустя, Николай Всеволодович, на мой осторожный
вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе, ответил нахмурившись: "Да, я
был тогда не совсем здоров". Но забегать вперед нечего.
Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас
накинулись тогда на "буяна и столичного бретера". Непременно хотели видеть
наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить вс¬ общество.
Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, - а чем бы
кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не
оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы
только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже
наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин.
Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану
Трофимовичу, что вс¬ это она давно предугадывала, все эти полгода каждый
день, и даже именно в "этом самом роде", признание замечательное со стороны
родной матери. - "Началось!" подумала она содрогаясь. На другое утро, после
рокового вечера в клубе, она приступила, осторожно, но решительно, к
объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на
решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к
Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не
случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей
сказал, хоть объясниться бы удостоил, Nicolas, всегда столь вежливый и
почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень
серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел.
А в тот же день, вечером, как нарочно подоспел и другой скандал, хотя и
гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря
всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.
Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу
тотчас после объяснений того с мамашей и убедительно просил его сделать
честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку, по поводу дня рождения
его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое
направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не





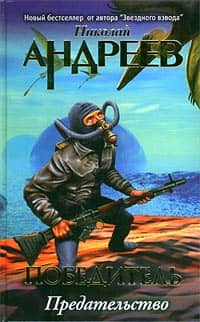
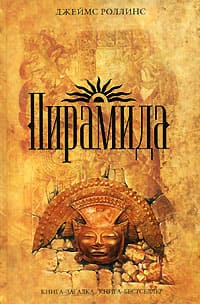 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Посняков Андрей
Посняков Андрей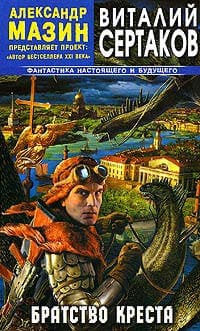 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Афанасьев Роман
Афанасьев Роман