стороны ее и с нею рядом семенили две стриженые нигилистки, a vis-а-vis
танцовал какой-то тоже пожилой господин, во фраке, но с тяжелою дубиной в
руке и будто бы изображал собою не петербургское, но грозное издание:
"Прихлопну мокренько будет". Но несмотря на свою дубину, он никак не мог
снести пристально устремленных на него очков "честной русской мысли" и
старался глядеть по сторонам, а когда делал pas de deux, то изгибался,
вертелся и не знал куда деваться - до того вероятно мучила его совесть...
Впрочем не упомню всех этих тупеньких выдумок; вс¬ было в таком же роде,
так что наконец мне стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое
впечатление как бы стыда отразилось и на всей публике, даже на самых
угрюмых физиономиях, явившихся из буфета. Некоторое время все молчали и
смотрели в сердитом недоумении. Человек в стыде обыкновенно начинает
сердиться и наклонен к цинизму. Мало-по-малу загудела наша публика:
- Это что ж такое? - пробормотал в одной кучке один буфетник.
- Глупость какая-то.
- Какая-то литература. Голос критикуют.
- Да мне-то что.
Из другой кучки:
- Ослы!
- Нет, они не ослы, а ослы-то мы.
- Почему ты осел?
- Да я не осел.
- А коль уж ты не осел, так я и подавно.
Из третьей кучки:
- Надавать бы всем киселей да и к чорту!
- Растрясти весь зал!
Из четвертой:
- Как не совестно Лембкам смотреть?
- Почему им совестно? Ведь тебе не совестно?
- Да и мне совестно, а он губернатор.
- А ты свинья.
- В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала, - ядовито
проговорила подле самой Юлии Михайловны одна дама, очевидно с желанием быть
услышанною. Эта дама была лет сорока, плотная и нарумяненная, в ярком
шелковом платье; в городе ее почти все знали, но никто не принимал. Была
она вдова статского советника, оставившего ей деревянный дом и скудный
пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлии Михайловне, месяца два
назад, сделала визит первая, но та не приняла ее.
- Так точно и предвидеть было возможно-с, - прибавила она, нагло заглядывая
в глаза Юлии Михайловне.
- А если могли предвидеть, то зачем же пожаловали? - не стерпела Юлия
Михайловна.
- Да по наивности-с, - мигом отрезала бойкая дама и вся так и всполохнулась
(ужасно желая сцепиться); но генерал стал между ними:
- Chere dame, - наклонился он к Юлии Михайловне, - право бы уехать. Мы их
только стесняем, а без нас они отлично повеселятся. Вы вс¬ исполнили,
открыли им бал, ну и оставьте их в покое... Да и Андрей Антонович не
совсем, кажется, чувствует себя у-до-вле-тво-рительно... Чтобы не случилось
беды?
Но уже было поздно.
Андрей Антонович вс¬ время кадрили смотрел на танцующих с каким-то
гневливым недоумением, а когда начались отзывы в публике, начал беспокойно
озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные
личности; взгляд его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий
смех над одною проделкой в кадрили: издатель "грозного не петербургского
издания", танцовавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не
может вынести на себе очков "честной русской мысли", и не зная куда от нее
деваться, вдруг, в последней фигуре пошел навстречу очкам вверх ногами, что
кстати и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого
смысла в "грозном не петербургском издании". Так как один Лямшин умел
ходить вверх ногами, то он и взялся представлять издателя с дубиной. Юлия
Михайловна решительно не знала, что будут ходить вверх ногами. "От меня это
утаили, утаили", повторяла она мне потом в отчаянии и негодовании. Хохот
толпы приветствовал конечно не аллегорию, до которой никому не было дела, а
просто хождение вверх ногами во фраке с фалдочками. Лембке вскипел и
затрясся:
- Негодяй! - крикнул он, указывая на Лямшина, - схватить мерзавца,
обернуть... обернуть его ногами... головой... чтоб голова вверху... вверху!
Лямшин вскочил на ноги. Хохот усиливался.
- Выгнать всех мерзавцев, которые смеются! - предписал вдруг Лембке. Толпа
загудела и загрохотала.
- Этак нельзя, ваше превосходительство.
- Публику нельзя ругать-с.
- Сам дурак! - раздался голос откуда-то из угла.
- Флибустьеры! - крикнул кто-то из другого конца.
Лембке быстро обернулся на крик и весь побледнел. Тупая улыбка показалась
на его губах, - как будто он что-то вдруг понял и вспомнил.
- Господа, - обратилась Юлия Михайловна к надвигавшейся толпе, в то же
время увлекая за собою мужа, - господа, извините Андрея Антоновича, Андрей
Антонович нездоров... извините... простите его, господа!
Я именно слышал, как она сказала: "простите". Сцена была очень быстра. Но я
решительно помню, что часть публики уже в это самое время устремилась вон
из зала, как бы в испуге, именно после этих слов Юлии Михайловны. Я даже
запоминаю один истерический женский крик сквозь слезы:
- Ах, опять как давеча!
И вдруг в эту уже начавшуюся почти давку опять ударила бомба, именно
"опять, как давеча":
- Пожар! Вс¬ Заречье горит!
Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик: в залах ли, или,
кажется, кто-то вбежал с лестницы из передней, но вслед затем наступила
такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на
бал публики были из Заречья - владетели тамошних деревянных домов или их
обитатели. Бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы.
Заречье пылало. Правда, пожар только еще начался, но пылало в трех
совершенно разных местах, - это-то и испугало.
- Поджог! Шпигулинские! - вопили в толпе.
Я упомнил несколько весьма характерных восклицаний:
- Так и предчувствовало мое сердце, что подожгут, все эти дни оно
чувствовало!
- Шпигулинские, Шпигулинские, некому больше!
- Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь!
Этот последний, самый удивительный крик был женский, неумышленный,
невольный крик погоревшей Коробочки. Вс¬ хлынуло к выходу. Не стану
описывать давки в передней при разборе шуб, платков и салопов, визга
испуганных женщин, плача барышень. Вряд ли было какое воровство, но




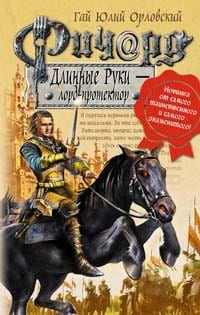

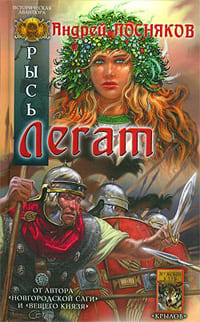 Посняков Андрей
Посняков Андрей Корнев Павел
Корнев Павел Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Каменистый Артем
Каменистый Артем Николаев Андрей
Николаев Андрей Круз Андрей
Круз Андрей