неудивительно, что при таком беспорядке некоторые так и уехали без теплой
одежды, не отыскав своего, о чем долго потом рассказывалось в городе с
легендами и прикрасами. Лембке и Юлия Михайловна были почти сдавлены толпою
в дверях.
- Всех остановить! Не выпускать ни одного! - вопил Лембке, грозно простирая
руку навстречу теснившимся, - всем поголовно строжайший обыск, немедленно!
- Андрей Антонович! Андрей Антонович! - восклицала Юлия Михайловна в
совершенном отчаянии.
- Арестовать первую! - крикнул тот, грозно наводя на нее свой перст, -
обыскать первую! Бал устроен с целью поджога...
Она вскрикнула и упала в обморок (о, уж конечно в настоящий обморок). Я,
князь и генерал бросились на помощь; были и другие, которые нам помогли в
эту трудную минуту, даже из дам. Мы, вынесли несчастную из этого ада в
карету; но она очнулась лишь подъезжая к дому, и первый крик ее был опять
об Андрее Антоновиче. С разрушением всех ее фантазий пред нею остался один
только Андрей Антонович. Послали за доктором. Я прождал у нее целый час,
князь тоже; генерал в припадке великодушия (хотя и очень перепугался сам)
хотел не отходить всю ночь от "постели несчастной", но через десять минут
заснул в зале, еще в ожидании доктора, в креслах, где мы его так и
оставили.
Полицеймейстер, поспешивший с бала на пожар, успел вывести вслед за нами
Андрея Антоновича и усадить его в карету к Юлии Михайловне, убеждая изо
всех сил его превосходительство "взять покой". Но не понимаю почему не
настоял. Конечно Андрей Антонович не хотел и слышать о покое и рвался на
пожар; но это был не резон. Кончилось тем, что он же и повез его на пожар в
своих дрожках. Потом рассказывал, что Лембке всю дорогу жестикулировал и
"такие идеи выкрикивали, что по необычайности невозможно было исполнить-с".
Впоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты
уже состояли от "внзапности испуга" в белой горячке.
Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько гуляк, а с ними даже
несколько дам осталось в залах. Полиции никакой. Музыку не отпустили и
уходивших музыкантов избили. К утру всю "палатку Прохорыча" снесли, пили
без памяти, плясали камаринского без цензуры, комнаты изгадили, и только на
рассвете часть этой ватаги, совсем пьяная, подоспела на догоравшее пожарище
на новые беспорядки... Другая же половина так и заночевала в залах, в
мертво-пьяном состоянии, со всеми последствиями, на бархатных диванах и на
полу. Поутру, при первой возможности, их вытащили за ноги на улицу. Тем и
кончилось празднество в пользу гувернанток нашей губернии.
IV.
Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный.
Замечательно, что при первом крике "горим" сейчас же раздался и крик, что
"поджигают Шпигулинские". Теперь уже слишком хорошо известно, что и в самом
деле трое Шпигулинских участвовали в поджоге, но - и только; все остальные
с фабрики совершенно оправданы и общим мнением, и официально. Кроме тех
трех негодяев (из коих один пойман и сознался, а двое по сю пору в бегах) -
несомненно участвовал в поджоге и Федька-каторжный. Вот и вс¬, что покамест
известно в точности о происхождении пожара; совсем другое дело догадки. Чем
руководствовались эти три негодяя, были или нет кем направлены? На вс¬ это
очень трудно ответить, даже теперь.
Огонь, благодаря сильному ветру, почти сплошь деревянным постройкам Заречья
и наконец поджогу с трех концов, распространился быстро и охватил целый
участок с неимоверною силой (впрочем поджог надо считать скорее с двух
концов: третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнуло,
о чем ниже). Но в столичных корреспонденциях вс¬-таки преувеличили нашу
беду: сгорело не более (а, может, и менее) одной четвертой доли всего
Заречья, говоря примерно. Наша пожарная команда, хотя и слабая сравнительно
с пространством и населением города, действовала однако весьма аккуратно и
самоотверженно. Но немного бы она сделала, даже и при дружном содействии
обывателей, если бы не переменившийся к утру ветер, вдруг упавший пред
самым рассветом. Когда я, всего час спустя после бегства с бала, пробрался
в Заречье, огонь был уже в полной силе. Целая улица, параллельная реке,
пылала. Было светло как днем. Не стану описывать в подробности картину
пожара: кто ее на Руси не знает? В ближайших проулках от пылавшей улицы
суета и теснота стояли непомерные. Тут огня ждали наверно и жители
вытаскивали имущество, но вс¬ еще не отходили от своих жилищ, а в ожидании
сидели на вытащенных сундуках и перилах, каждый под своими окнами. Часть
мужского населения была в тяжкой работе, безжалостно рубила заборы и даже
сносила целые лачуги, стоявшие ближе к огню и под ветром. Плакали лишь
проснувшиеся ребятишки, да выли причитывая женщины, уже успевшие вытащить
свою рухлядь. Неуспевшие пока молча и энергически вытаскивались. Искры и
гальки разлетались далеко; их тушили по возможности. На самом пожаре
теснились зрители, сбежавшиеся со всех концов города. Иные помогали тушить,
другие глазели как любители. Большой огонь по ночам всегда производит
впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейрверки; но там
огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей
безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала
шампанского. Другое дело настоящий пожар: тут ужас и вс¬ же как бы
некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем впечатлении
ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем
обывателе) некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным
разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе
самого смиренного и семейного титулярного советника... Это мрачное ощущение
почти всегда упоительно. "Я право не знаю, можно ли смотреть на пожар без
некоторого удовольствия?" Это, слово в слово, сказал мне Степан Трофимович,
возвратясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно и под
первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня
бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху; но ведь это
уже совсем другая статья.
Теснясь вслед за любопытною толпой, я без расспрашиваний добрел до
главнейшего и опаснейшего пункта, где и увидел наконец Лембке, которого
отыскивал по поручению самой Юлии Михайловны. Положение его было
удивительное и чрезвычайное. Он стоял на обломках забора; налево от него,
шагах в тридцати, высился черный скелет уже совсем почти догоревшего
двухэтажного деревянного дома, с дырьями вместо окон в обоих этажах; с
провалившеюся крышей и с пламенем вс¬ еще змеившимся кое-где по обугленным
бревнам. В глубине двора, шагах в двадцати от погоревшего дома, начинал
пылать флигель, тоже двухэтажный, и над ним изо всех сил старались
пожарные. Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое деревянное
строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и
которому неминуемо суждено было сгореть. Лембке кричал и жестикулировал
лицом к флигелю и отдавал приказания, которых никто не исполнял. Я было
подумал, что его так тут и бросили и совсем от него отступились. По крайней
мере густая и чрезвычайно разнородная толпа, его окружавшая, в которой
вместе со всяким людом были и господа и даже соборный протопоп, хотя и
слушали его с любопытством и удивлением, но никто из них с ним не
заговаривал и не пробовал его отвести. Лембке бледный, с сверкающими
глазами, произносил самые удивительные вещи; к довершению был без шляпы и
уже давно потерял ее.
- Вс¬ поджог! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм! - услышал я
чуть не с ужасом, и хотя удивляться было уже нечему, но наглядная
действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее.
- Ваше превосходительство, - очутился подле него квартальный, - если бы вы
соизволили испробовать домашний покой-с... А то здесь даже и стоять опасно
для вашего превосходительства.
Этот квартальный, как я узнал потом, нарочно был оставлен при Андрее
Антоновиче полицеймейстером, с тем чтобы за ним наблюдать и изо всех сил
стараться увезти его домой, а в случае опасности так даже подействовать
силой, - поручение очевидно свыше сил исполнителя.
- Слезы погоревших утрут, но город сожгут. Это вс¬ четыре мерзавца, четыре
с половиной. Арестовать мерзавца! Он тут один, а четыре с половиной им
оклеветаны. Он втирается в честь семейств. Для зажигания домов употребили
гувернанток. Это подло, подло! Ай, что он делает! - крикнул он, заметив
вдруг на кровле пылавшего флигеля пожарного, под которым уже прогорела
крыша и кругом вспыхивал огонь; - стащить его, стащить, он провалится, он
загорится, тушите его... Что он там делает?
- Тушит, ваше превосходительство.
- Невероятно. Пожар в умах, а не на крыше домов. Стащить его и бросить вс¬!
Лучше бросить, лучше бросить! Пусть само как-нибудь! Ай, кто еще плачет?
Старуха! Кричит старуха, зачем забыли старуху!
Действительно, в нижнем этаже пылавшего флигеля кричала забытая старуха,
восьмидесятилетняя родственница купца, хозяина горевшего дома. Но ее не
забыли, а она сама воротилась в горевший дом, пока было можно, с безумною
целью вытащить из угловой каморки, еще уцелевшей, свою перину.





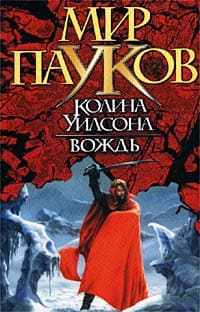
 Каменистый Артем
Каменистый Артем Березин Федор
Березин Федор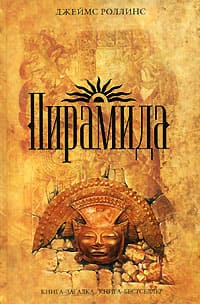 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Лукин Евгений
Лукин Евгений Белов Вольф
Белов Вольф Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий