и уже совершенно неожиданным ужасом.
укрепившегося, в том, что он, Вельчанинов (и светский человек), сегодня же
сам, своей волей, кончит все тем, что пойдет к Павлу Павловичу, - зачем?
для чего? - ничего он этого не знал и с отвращением знать не хотел, а знал
только то, что зачем-то потащится.
того, что получило, насколько можно, разумный вид и довольно законный
предлог: ему еще как бы грезилось, что Павел Павлович воротится в свой
номер, запрется накрепко и - повесится, как тот казначей, про которого
рассказывала Марья Сысоевна. Эта вчерашняя мечта перешла в нем мало-помалу
в бессмысленное, но неотразимое убеждение. "Зачем этому дураку вешаться?" -
перебивал он себя поминутно. Ему вспоминались давнишние слова Лизы... "А
впрочем, я на его месте, может, и повесился бы..." - придумалось ему один
раз.
к Павлу Павловичу. "Я только у Марьи Сысоевны спрошу", - решил он. Но, еще
не успев выйти на улицу, он вдруг остановился под воротами.
ж я плетусь туда, чтоб "обняться и заплакать"? Неужели только этой
бессмысленной мерзости недоставало ко всему сраму?
приличных людей. Только что он вышел на улицу, с ним вдруг столкнулся
Александр Лобов. Юноша был впопыхах и в волнении.
не повесился (почему повесился?). Напротив - уехал. Я только что сейчас его
в вагон посадил и отправил. Фу, как он пьет, я вам скажу! Мы три бутылки
выпили, Предпосылов тоже, - но как он пьет, как он пьет! Песни пел в
вагоне, об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел. А подлец он,
как вы думаете, - а?
блиставшие глаза и плохо слушавшийся язык сильно об этом свидетельствовали.
Вельчанинов захохотал во все горло:
заплакали! Ах вы, Шиллеры-поэты!
был и сегодня был. Нафискалил ужасно. Надю заперли, - сидит в антресолях.
Крик, слезы, но мы не уступим! Но как он пьет, я вам скажу, как он пьет! И
знаете, какой он моветон, то есть не моветон, а как это?.. И все про вас
вспоминал, но какое сравнение с вами! Вы все-таки порядочный человек и в
самом деле принадлежали когда-то к высшему обществу и только теперь
принуждены уклониться, - по бедности, что ли... Черт знает, я его плохо
разобрал.
тому, что в наш век в России не знаешь, кого уважать. Согласитесь, что это
сильная болезнь века, когда не знаешь, кого уважать, - не правда ли?
промотавшийся Вельчанинов"? почему но промотавшийся, а не и промотавшийся!
Смеется, тысячу раз повторил. В вагон сел, песню запел и заплакал - просто
отвратительно; так даже жалко, - спьяну. Ах, не люблю дураков! Нищим
пустился деньги раскидывать, за упокой души Лизаветы - жена, что ль, его?
заклад, что он там, куда приедет, тотчас же опять женится, - не правда ли?
уж он, наверно, шестидесятилетний; тут нужна логика, батюшка! И знаете,
прежде, давно уже, я был чистый славянофил по убеждениям, но теперь мы ждем
зари с запада... Ну, до свидания; хорошо, что столкнулся с вами не заходя;
не зайду, не просите, некогда!..
прислал! Вот письмо. Зачем вы не пришли провожать?
конверт.
какое-то другое письмо. Вельчанинов узнал эту руку. Письмо было старое, на
пожелтевшей от времени бумаге, с выцветшими чернилами, писанное лет десять
назад к нему в Петербург, два месяца спустя после того, как он выехал тогда
из Т. Но письмо это не пошло к нему; вместо него он получил тогда другое;
это ясно было по смыслу пожелтевшего письма. В этом письме Наталья
Васильевна, прощаясь с ним навеки - точно так же как и в полученном тогда
письме - и признаваясь ему, что любит другого, не скрывала, однако же, о
своей беременности. Напротив, в утешение ему сулила, что она найдет случай
передать ему будущего ребенка, уверяла, что отныне у них другие
обязанности, что дружба их теперь навеки закреплена, - одним словом, логики
было мало, но цель была все та же: чтоб он избавил ее от любви своей. Она
даже позволяла ему заехать в Т. через год - взглянуть на дитя. Бог знает
почему она раздумала и выслала другое письмо вместо этого.
нашедшего это письмо и читавшего его в первый раз перед раскрытым фамильным
ящичком черного дерева с перламутровой инкрустацией.
лицо нечаянно в зеркале, - должно быть, читал, и закрывал глаза, и вдруг
опять открывал в надежде, что письмо обратится в простую белую бумагу...
Наверно, раза три повторил опыт!.."
встречаем господина Вельчанинова в один прекрасный летний день в вагоне
одной из вновь открывшихся наших железных дорог. Он ехал в Одессу, чтоб
повидаться, для развлечения, с одним приятелем, а вместе с тем и по
другому, тоже довольно приятному обстоятельству; через этого приятеля он
надеялся уладить себе встречу с одною из чрезвычайно интересных женщин, с
которою ему давно уже желалось познакомиться. Не вдаваясь в подробности,
ограничимся лишь замечанием, что он сильно переродился, или, лучше сказать,
исправился, в эти последние два года. От прежней ипохондрии почти и следов
не осталось. От разных "вспоминаний" и тревог - последствий болезни, -
начавших было осаждать его два года назад в Петербурге, во время
неудававшегося процесса, - уцелел в нем лишь некоторый потаенный стыд от
сознания бывшего малодушия. Его вознаграждала отчасти уверенность, что
этого уже больше не будет и что об этом никто и никогда не узнает. Правда,
он тогда бросил общество, стал даже плохо одеваться, куда-то от всех
спрятался, - и это, конечно, было всеми замечено. Но он так скоро явился с
повинною, а вместе с тем и с таким вновь возрожденным и самоуверенным
видом, что "все" тотчас же ему простили его минутное отпадение; даже те из
них, с которыми он перестал было кланяться, первые же и узнали его и
протянули ему руку, и притом без всяких докучных вопросов, - как будто он
все время был где-то далеко в отлучке по своим домашним делам, до которых
никому из них нет дела, и только что сейчас воротился. Причиною всех этих
выгодных и здравых перемен к лучшему был, разумеется, выигранный процесс.



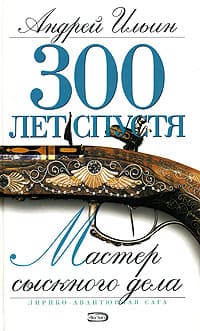


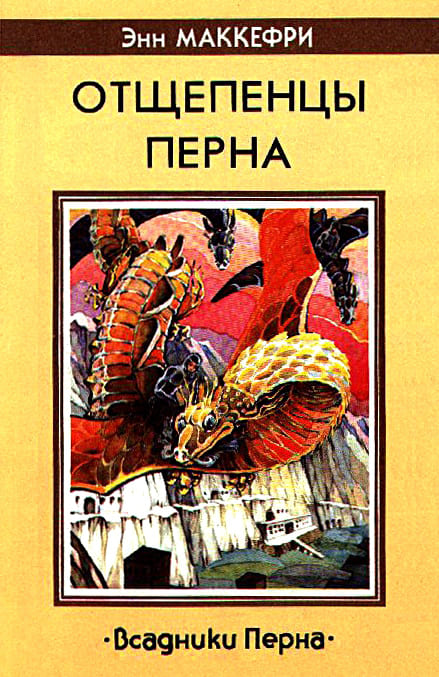 Маккефри Энн
Маккефри Энн Корнев Павел
Корнев Павел Перумов Ник
Перумов Ник Шилова Юлия
Шилова Юлия Посняков Андрей
Посняков Андрей Емилина Ника
Емилина Ника