чин и фамилию, - кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного, чувством
собственного достоинства; кавалеров, говорящих большею частию на
французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого
высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, - кавалеров, разве только
в трубочной позволяющих себе некоторые любезные отступления от языка
высшего тона, некоторые фразы дружеской и любезной короткости, вроде таких,
например: "что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку откалывал",
или: "что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку,
как хотел". На все это, как уже выше имел я честь объяснять вам, о
читатели! недостает мне пера моего, и потому я молчу. Обратимся лучше к
господину Голядкину, единственному истинному герою весьма правдивой повести
нашей.
более, положении. Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что
на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит
на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь - даже странно сказать -
стоит он теперь в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфия Ивановича. Но
это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку,
забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти
огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью,
скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в
качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он,
господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть,
и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, - выстаивая, впрочем, уже
третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом
и рухлядью, - цитировал он, в собственное оправдание свое, одну фразу
блаженной памяти французского министра Виллеля, что "все, дескать, придет
своим чередом, если выждать есть сметка". Фразу эту вычитал господин
Голядкин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь
весьма кстати привел ее себе на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла
к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову
человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих почти битые
три часа в сенях, в темноте и на холоде? Цитировав, как уже сказано было,
весьма кстати фразу бывшего французского министра Виллеля, господин
Голядкин тут же, неизвестно почему, припомнил и о бывшем турецком визире
Марцимирисе, равно как и о прекрасной маркграфине Луизе, историю которых
читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты
поставили даже правилом своим считать все средства годящимися, лишь бы цель
могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим
пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты?
Иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за
пояс, что вот только бы на минуту опустела буфетная (та комната, которой
дверь выходила прямо в сени, на черную лестницу, и где господин Голядкин
находился теперь), так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет - да прямо и
пройдет, сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в
карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдет,
непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет, проскользнет, да и только,
и никто не заметит; а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком-то
положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории
нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что' именно делалось с ним в
настоящее время. Дело-то в том, что он до сеней и до лестницы добраться
умел, по той причине, что, дескать, почему ж не добраться, что все
добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не
потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому
что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает
теперь тихомолочки, и выжидает ее ровно два часа с половиною. Отчего же и
не выждать? И сам Виллель выжидал. "Да что тут Виллель! - думал господин
Голядкин,- Какой тут Виллель? Вот как бы мне теперь, того... взять да и
проникнуть?.. Эх ты, фигурант ты этакой! - сказал господин Голядкин,
ущипнув себя окоченевшей рукою за окоченевшую щеку, - дурашка ты этакой,
Голядка ты этакой,- фамилия твоя такая!.." Впрочем, это ласкательство
собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом,
без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед; минута
настала; буфетная опустела, и в ней нет никого; господин Голядкин видел все
это в окошко; в два шага очутился он у двери и уже стал отворять ее. "Идти
или нет? Ну, идти или нет? Пойду... отчего ж не пойти? Смелому дорога
везде!" - Обнадежив себя таким образом, герой наш вдруг и совсем неожиданно
ретировался за ширмы. "Нет, - думал он, - а ну как войдет кто-нибудь? Так и
есть, вошли; чего ж я зевал, когда народу не было? Этак бы взять да и
проникнуть!.. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой! Эка
ведь тенденция подлая! Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно
что! Нагадить-то всегда наше дело: об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и
стой здесь, как чурбан, да и только! Дома бы чаю теперь выпить чашечку...
Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку. Позже прийти, так Петрушка
будет, пожалуй ворчать. Не пойти ли домой? Черти бы взяли все это! Иду, да
и только!" Разрешив таким образом свое положение, господин Голядкин быстро
подался вперед, словно пружину какую кто тронул в нем; с двух шагов
очутился в буфетной, сбросив шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это
все в угол, оправился и огладился; потом... потом двинулся в чайную, из
чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между
вошедшими в азарт игроками; потом... потом... тут господин Голядкин позабыл
все, что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в
танцевальную залу.
группами. Мужчины сбивались в кружок или шныряли по комнате, ангажируя дам.
Господин Голядкин не замечал этого ничего. Видел он только Клару
Олсуфьевну; возле нее Андрея Филипповича, потом Владимира Семеновича, да
еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма
интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому
взгляду судить, кое-какие надежды... Видел он и еще кой-кого. Или нет; он
уже никого не видел, ни на кого не глядел... а двигаемый тою же самой
пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался
вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то
советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной
старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще
кой-кого и, не заметив всего этого, или, лучше сказать, заметив, но уж так,
заодно, не глядя ни на кого, пробираясь все далее и далее вперед, вдруг
очутился перед самой Кларой Олсуфьевной. Без всякого сомнения, глазком не
мигнув, он с величайшим бы удовольствием провалился в эту минуту сквозь
землю; но, что сделано было, того не воротишь... ведь уж никак не воротишь.
Что же было делать? "Не удастся - держись, а удастся - крепись. Господин
Голядкин, уж разумеется, был не интригант и лощить паркет сапогами не
мастер..." Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались...
Но не до них, впрочем, было господину Голядкину! Все, что ходило, шумело,
говорило, смеялось, вдруг, как бы по мановению какому, затихло и
мало-помалу столпилось около господина Голядкина. Господин Голядкин,
впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть... он
ни за что не мог смотреть; он опустил глаза в землю да так и стоял себе,
дав себе, впрочем, мимоходом честной слово каким-нибудь образом
застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин
мысленно сказал себе: "была не была!" и, к собственному своему величайшему
изумлению, совсем неожиданно начал вдруг говорить.
Поздравления прошли хорошо; а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал
он, что если запнется, то все сразу к черту пойдет. Так и вышло - запнулся
и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял
глаза; поднял глаза и обвел их кругом; обвел их кругом и - и обмер... Все
стояло, все молчало, все выжидало; немного подальше зашептало; немного
поближе захохотало. Господин Голядкин бросил покорный, потерянный взор на
Андрея Филипповича. Андрей Филиппович ответил господину Голядкину таким
взглядом, что если б герой наш не был уже убит вполне, совершенно, то был
бы непременно убит в другой раз, - если б это было только возможно.
Молчание длилось.
моей, Андрей Филиппович, - едва слышным голосом проговорил полумертвый
господин Голядкин, - это неофициальное приключение, Андрей Филиппович...
полушепотом, с невыразимою миной негодования, - проговорил, взял за руку
Клару Олсуфьевну и отвернулся от господина Голядкина.
так же полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и
стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и
социального своего положения.
может случиться, - шептал господин Голядкин, сдвигаясь понемногу с места и
стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш
кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей.
Рок увлекал его. Господин Голядкин сам это чувствовал, что рок-то его
увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь, без
нарушения приличий, на прежней стоянке своей в сенях, возле черной
лестницы; но так как это было решительно невозможно, то он и начал
стараться улизнуть куда-нибудь в уголок да так и стоять себе там - скромно,
прилично, особо, никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного
внимания, но вместе с тем снискав благорасположение гостей и хозяина.
Впрочем, господин Голядкин чувствовал, что его как будто бы подмывает
что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного
уголка и стал в нем как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель,
опершись руками на спинки двух стульев, захватив их, таким образом, в свое
полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на
сгруппировавшихся около него гостей Олсуфия Ивановича. Ближе всех стоял к



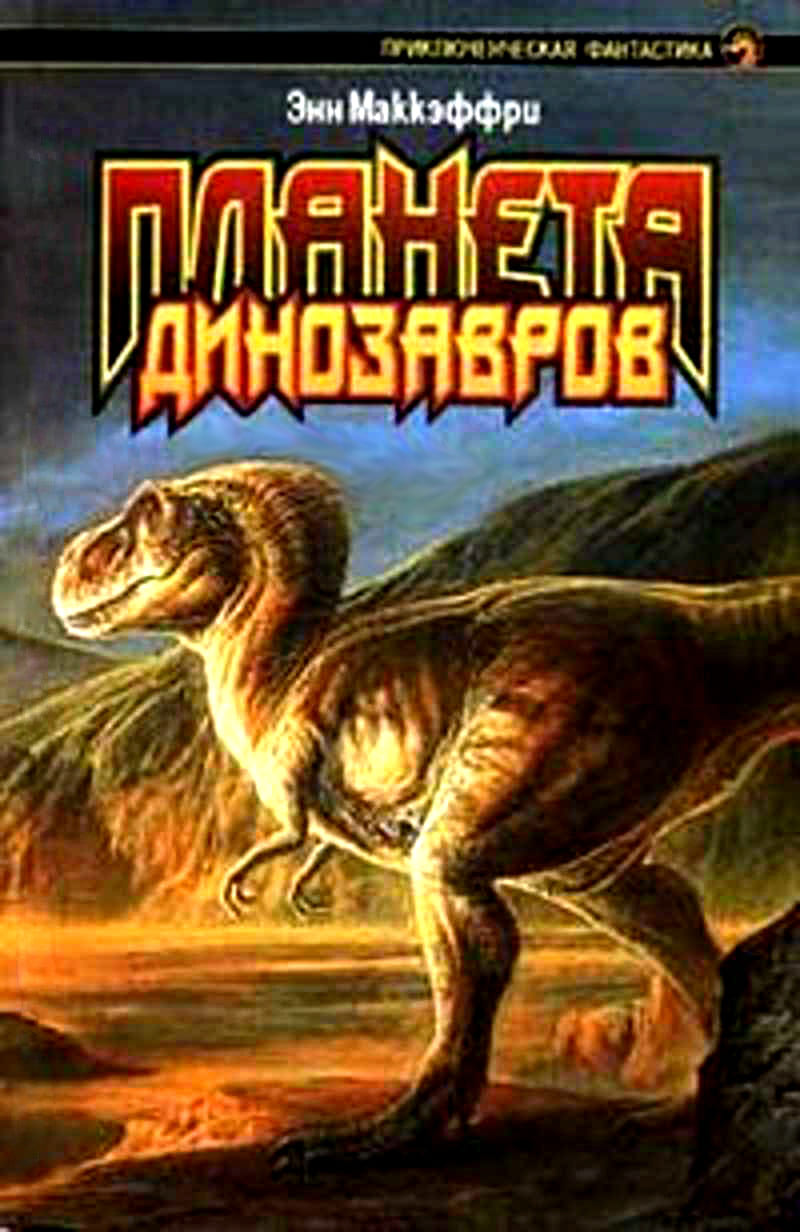
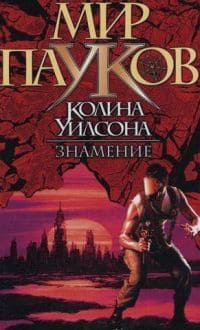

 Панов Вадим
Панов Вадим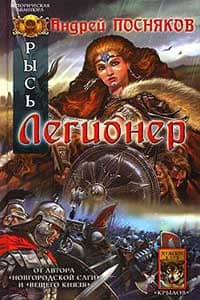 Посняков Андрей
Посняков Андрей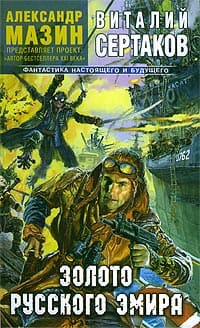 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия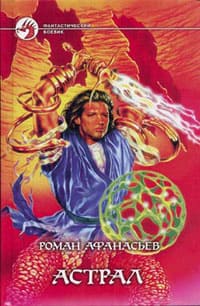 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк