половины острога; теперь же стояла пустая. Он схватил ее обеими руками и
взмахнул над нами. Еще немного, и он бы раздробил нам головы. Несмотря на
то что убийство или намерение убить грозило чрезвычайными неприятностями
всему острогу: начались бы розыски, обыски, усиление строгостей, а потому
арестанты всеми силами старались не доводить себя до подобных общих
крайностей, - несмотря на это, теперь все притихли и выжидали. Ни одного
слова в защиту нас! Ни одного крика на Газина! - до такой степени была
сильна в них ненависть к нам! Им, видимо, приятно было наше опасное
положение... Но дело кончилось благополучно; только что он хотел опустить
сельницу, кто-то крикнул из сеней:
говорили это.
или кстати придуманное, нам во спасение.
тяжелая грусть пала мне на душу, и никогда после я не испытывал такой
грусти во всю мою острожную жизнь. Тяжело переносить первый день заточения,
где бы то ни было: в остроге ли, в каземате ли, в каторге ли... Но, помню,
более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво
преследовала меня во все время моей жизни в остроге, - мысль отчасти
неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания
за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с
другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека;
взвешены все обстоятельства обоих дел; и по тому и по другому делу выходит
почти одно наказание. А между тем, посмотрите, какая разница в
преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за ничто, за луковицу:
вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна
луковица. "Что ж, батька! Ты меня посылал на добычу: вон я мужика зарезал и
всего-то луковицу нашел". - "Дурак! Луковица - ан копейка! Сто душ - сто
луковиц, вот те и рубль!" (острожная легенда). А другой убил, защищая от
сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери. Один убил по
бродяжничеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу,
жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из
удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь,
насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И
что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу. Правда, есть вариация в
сроках присуждаемых наказаний. Но вариаций этих сравнительно немного; а
вариаций в одном и том же роде преступлений - бесчисленное множество. Что
характер, то вариация. Но положим, что примирить, сгладить эту разницу
невозможно, что это своего рода неразрешимая задача - квадратура круга,
положим так! Но если б даже это неравенство и не существовало, - посмотрите
на другую разницу, на разницу в самых последних наказаниях... Вот человек,
который в каторге чахнет, тает как свечка; и вот другой, который до
поступления в каторгу и не знал даже, что есть на свете такая развеселая
жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей. Да, приходят в острог и
такие. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с
сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких
наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление
беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой,
который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве, во всю
каторгу. Он даже считает себя правым. А бывают и такие, которые нарочно
делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от
несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени
унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с
утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого,
какого он еще и не видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть
возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий,
всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением;
он еще не видал таких; он считает их самым высшим обществом, которое только
может быть в свете. Неужели наказание для этих двух одинаково
чувствительно? Но, впрочем, что заниматься неразрешимыми вопросами! Бьет
барабан, пора по казармам.
каждая особым замком, и арестанты оставлялись запертыми вплоть до рассвета.
арестантов выстраивали иногда на дворе, и приходил караульный офицер. Но
чаще вся эта церемония происходила домашним образом: поверяли по казармам.
Так было и теперь. Поверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и
возвращались снова. Наконец бедные караульные досчитались до желанной цифры
и заперли казарму. В ней помещалось человек до тридцати арестантов, сбитых
довольно тесно на нарах. Спать было еще рано. Каждый, очевидно, должен был
чем-нибудь заняться.
упоминал прежде. В каждой казарме тоже был старший из арестантов,
назначаемый самим плац-майором, разумеется, за хорошее поведение. Очень
часто случалось, что и старшие в свою очередь попадались в серьезных
шалостях; тогда их секли, немедленно разжаловали в младшие и замещали
другими. В нашей казарме старшим оказался Аким Акимыч, который, к удивлению
моему, нередко покрикивал на арестантов. Арестанты отвечали ему обыкновенно
насмешками. Инвалид был умнее его и ни во что не вмешивался, а если и
случалось ему шевелить когда языком, то не более как из приличия, для
очистки совести. Он молча сидел на своей койке и тачал сапоги. Арестанты не
обращали на него почти никакого внимания.
впоследствии убедился, что оно верно. Именно: что все не арестанты, кто бы
они ни были, начиная с непосредственно имеющих связь с арестантами, как-то:
конвойных, караульных солдат, до всех вообще, имевших хоть какое-нибудь
дело с каторжным бытом, - как-то преувеличенно смотрят на арестантов. Точно
они каждую минуту в беспокойстве, что арестант нет-нет да и бросится на
кого-нибудь из них с ножом. Но что всего замечательнее - сами арестанты
сознавали, что их боятся, и это, видимо, придавало им что-то вроде куражу.
А между тем самый лучший начальник для арестантов бывает именно тот,
который их не боится. Да и вообще, несмотря на кураж, самим арестантам
гораздо приятнее, когда к ним имеют доверие. Этим их можно даже привлечь к
себе. Случалось в мое острожное время, хотя и чрезвычайно редко, что
кто-нибудь из начальства заходил в острог без конвоя. Надо было видеть, как
это поражало арестантов, и поражало с хорошей стороны. Такой бесстрашный
посетитель всегда возбуждал к себе уважение, и если б даже действительно
могло случиться что-нибудь дурное, то при нем бы оно не случилось.
Внушаемый арестантами страх повсеместен, где только есть арестанты, и,
право, не знаю, отчего он собственно происходит. Некоторое основание он,
конечно, имеет, начиная с самого наружного вида арестанта, признанного
разбойника; кроме того, всякий, подходящий к каторге, чувствует, что вся
эта куча людей собралась здесь не своею охотою и что, несмотря ни на какие
меры, живого человека нельзя сделать трупом: он останется с чувствами, с
жаждой мщения и жизни, с страстями и с потребностями удовлетворить их.
Несмотря на то, я положительно уверен, что бояться арестантов все-таки
нечего. Не так легко и не так скоро бросается человек с ножом на другого
человека. Одним словом, если и возможна опасность, если она и бывает когда,
то, по редкости подобных несчастных случаев, можно прямо заключить, что она
ничтожна. Разумеется, я говорю теперь только об арестантах решоных, из
которых даже многие рады, что добрались наконец до острога (до того хороша
бывает иногда жизнь новая!), а следовательно, расположены жить спокойно и
мирно; да, кроме того, и действительно беспокойным из своих сами не дадут
много куражиться. Каждый каторжный, как бы он смел и дерзок ни был, боится
всего в каторге. Подсудимый же арестант - другое дело. Этот действительно
способен броситься на постороннего человека так, ни за что, единственно
потому, например, что ему завтра должно выходить к наказанию; а если
затеется новое дело, то, стало быть, отдаляется и наказание. Тут есть
причина, цель нападения: это - "переменить свою участь" во что бы то ни
стало и как можно скорее. Я даже знаю один странный психологической случай
в этом роде.
не лишенный прав состояния, присланный года на два в острог по суду,
страшный фанфарон и замечательный трус. Вообще фанфаронство и трусость
встречаются в русском солдате чрезвычайно редко. Наш солдат смотрит всегда
таким занятым, что если б и хотел, то ему бы некогда было фанфаронить. Но
если уж он фанфарон, то почти всегда бездельник и трус. Дутов (фамилия
арестанта) отбыл наконец свой коротенький срок и вышел опять в линейный
батальон. Но так как все ему подобные, посылаемые в острог для исправления,
окончательно в нем балуются, то обыкновенно и случается так, что они, побыв
на воле не более двух-трех недель, поступают снова под суд и являются в
острог обратно, только уж не на два или на три года, а во "всегдашний"
разряд, на пятнадцать или на двадцать лет. Так и случилось. Недели через
три по выходе из острога, Дутов украл из-под замка; сверх того, нагрубил и



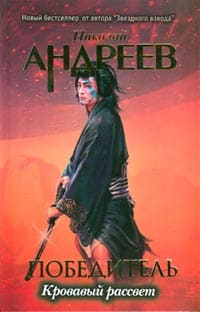


 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Шилова Юлия
Шилова Юлия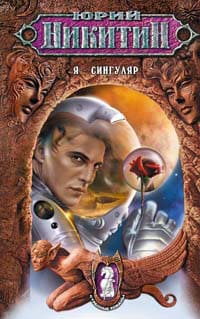 Никитин Юрий
Никитин Юрий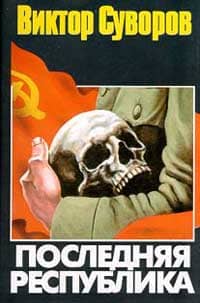 Суворов Виктор
Суворов Виктор Ларссон Стиг
Ларссон Стиг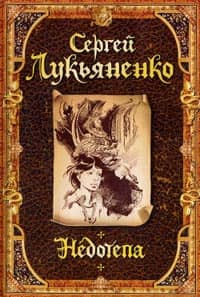 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей